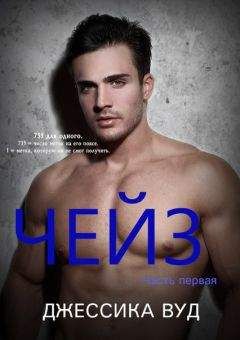Михаил Козаков - Актерская книга
Сценарий очень роммовский, крепкий, социальный, не слишком глубокий. Типичный Ромм конца 30-х. Стиль — «Убийство на улице Данте», хуже «Мечты» и «Девяти дней», а уж тем паче «Обыкновенного фашизма». Сценарий им был сочинен вместе с неким Эдуардом Пенслиным, как Германн, обрусевшим немцем, правда из поволжских. Эдуард Адольфович Пенслин, согласно справочнику Союза кинематографистов, проживал на улице Часовой, что у метро «Аэропорт». В моем распоряжении оказался его телефон. Меня интересовало все, что связано с этой приковавшей меня к себе вещью Пушкина, а уж тем паче с ее экранными версиями, будь то немой десятиминутный фильм 1916 года или также немой фильм 20-х с Мозжухиным в роли Германна. Я решился потревожить Пенслина, несмотря на то что мог догадаться о неприятном осадке, оставшемся у одного из еще живых авторов закрытой картины конца 30-х годов.
Ромм, когда сжег экземпляры, стал снимать свою «Лениниану» и сделался знаменитым режиссером сталинского времени, о чем потом рассказал в своей исповедальной речи в ВТО. Пенслин, будучи Адольфовичем, долго отсутствовал. Шутки все той же старухи-графини? В каком-то смысле можно трактовать историю и таким образом. И все-таки я решился.
Телефонный разговор с Эдуардом Адольфовичем был напряженным. Я невнятно объяснил, чего бы я хотел от аудиенции, которую прошу у него. Аудиенция была мне предоставлена. Дверь в доме на Часовой открыла его жена, пожилая полноватая дама небольшого роста, с лицом, не хранящим остатков былой красоты. Когда я увидел сухонького, очень пожилого господина, хозяина дома, я понял, что он постарше своей жены лет на десять. Ему было что-то в районе семидесяти с лишним, ей примерно шестьдесят. Лица хозяев не светились радушием. Цель моего прихода была им не вполне понятна.
И действительно, что я хотел узнать? Сценарий я читал и помнил его лучше одного из еще живых авторов. Тогда что? Историю закрытия? Я ее знал от Ромма. Тайну трех карт? Но Пенслин ее не знал. Меня интересовало, не остались ли фотопробы, что успели снять на пленку, кого пробовали на роли, как работали с Прокофьевым. Но вообще-то все это для меня не имело никакого практического значения. Тогда на кой хрен я приперся на Часовую? Честно говоря, я этого не знал и сам. Получить подобие благословения на смущавшую меня работу от прошлых претендентов? Наверное, что-то вроде этого, хотя, разумеется, ничего подобного вслух я не сказал. Напротив, я скорее делился своим замыслом, советовался, что-то пытался уточнить и понять.
И все же, как выяснилось, я пришел не зря. Первая часть визита длилась не более получаса, больше говорить было не о чем. И когда я уже стал прощаться, еще и еще раз извинившись за вторжение, жена Пенслина, до этого все время молчавшая и только странно и напряженно смотревшая на незваного гостя, вдруг сказала:
— Михаил Михайлович, позвольте спросить вас…
Перехватив неодобрительный взгляд ее мужа, я тут же засуетился:
— Конечно, конечно!
Я полагал, что она спросит меня об истинной цели моего визита, или попросит билеты в какой-нибудь театр, или даже сделает мне замечание по поводу моего в чем-то бестактного вторжения в их жизнь. «Михаил Михайлович, скажите, у вас до войны был ежик?» Я вздрогнул. Это был тот самый случай, когда пишут: «Его словно током пронзило».
Дело в том, что у меня перед войной действительно жил ежик, да не один, а целых два; они жили в нашем доме один за другим. Первого мне купила няня Катя на рынке в 1940 году. Он стучал своими коготками по деревянному дощатому полу нашей квартиры, пил молочко из блюдца и прятался под кроватью. Этот маленький дурачок для тепла юркнул в обогревательную батарею папиного кабинета, расправил свои иголки и вылезти оттуда не смог. Пришлось отвинчивать батарею и доставать моего, уже мертвого, любимца. Я очень плакал, и мне купили другого в 41-м году.
Этот был общительнее и умнее. Когда ночью папа ужинал в столовой в одиночестве, малыш прибегал к нему, стуча коготками, и поглядывал на отца. Папа «отрывал» ему колбаски от своей ночной трапезы. Этот ежик однажды остался в отцовском кабинете, когда папа уехал дня на два-три; в батарею он не полез — все батареи нашей квартиры были предусмотрительно закупорены тряпками, но растерзал все подшивки журнала «Нива», хранившиеся у отца на нижней полке. Когда папа это увидел, он ахнул. Но моему дружку это простили: «Не любит прессы». — «Напротив, он ее хотел проштудировать». Так шутили в семье по этому поводу. Мы уехали в эвакуацию: отец, мама, няня Катя, братья. В квартире остались бабушка Зоя и ежик…
— Да, у меня был ежик, — растерянно отвечал я жене кинодраматурга.
— А вы помните вашу бабушку, Зою Дмитриевну?
— Да-да, конечно, — отвечал я, не сводя с нее глаз.
Драматург сказал:
— Валя, может, не надо? — И, кажется, закурил, а может, просто опустил глаза, не помню.
— Нет-нет, продолжайте! — сказал я.
— Ваша бабушка, Михаил Михайлович, очень вас любила и много рассказывала мне о Мишечке-маленьком и его старших братьях. И ежика вашего я еще помню. Дело в том, что мне было суждено узнать вашу бабушку, когда вы все уехали из Ленинграда. Мою ленинградскую квартиру вместе с домом разбомбило, я осталась жива. Нас, бездомных, подселяли. Управдом вашего дома поздней осенью 41-го дал мне ключ от вашей квартиры. Я ключом открыла дверь и так испугалась, что, кажется, даже закричала. По длинному темному коридору навстречу мне медленно двигалась белая-белая старуха. Я замерла. Белая женщина ровно, спокойно сказала: «Деточка, не пугайтесь. Я не привидение. — Она по голосу поняла, что я очень молода — мне было неполных двадцать. — Деточка, я просто очень старая и к тому же слепая». Мы очень подружились в эту страшную осень 41-го и зиму уже 42-го. И тогда-то я узнала от нее про вас, ваших родителей, про ваших братьев… Она очень любила говорить про всех вас. А вы были ее любимцем — ведь самый маленький! Ежик жил недолго, да и Зоя Дмитриевна ненамного его пережила. К нам подселили еще одну женщину, еврейку. Очень милую. Какое-то время мы жили втроем. Ваша бабушка была уже очень слаба. Незадолго перед кончиной она дала нам тридцать рублей и попросила ее отпеть после смерти. Но вы сами понимаете — какое там отпевание зимой 42-го! Когда она умерла на своей кровати, эта женщина-еврейка закрыла ей глаза и сказала: «Простите меня, Зоя Дмитриевна, мы не можем исполнить вашу просьбу так, как вы хотели. Но как могла, я это сделала. Я некрещеная, но я помолилась за вас». Потом за ее телом пришли и унесли. — После большой паузы она добавила: — Мы с Эдуардом Адольфовичем не раз обсуждали: найти вас и рассказать все это или не стоит? Мы, разумеется, заочно вас знали. Мы знали, что была еще жива ваша матушка. Как бы она это все восприняла? И вот теперь вы пришли сами.