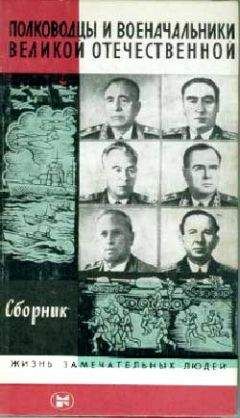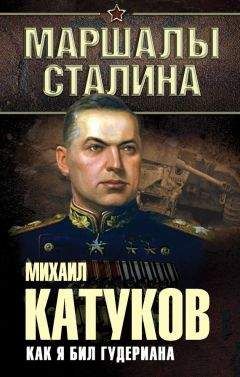Владислав Бахревский - Никон (сборник)
– Наш игумен ни аскетов, ни юродивых не жалует, – ответили страннику. – Коли хочешь с нами молиться, сними с ног цепи, а с тела хвосты конские.
Странник не перечил, дал за совет вратникам денежек, как семечек, из горсти в горсть. И стал из гостя досужего желанным.
Поместили его в хорошей келии, постель постелили новую, чистую. Невзначай спрашивали, кто, откуда? Но странник улыбался и медленно разводил руками, покачивая ладонями, словно подавал на них весь белый свет.
На житье свое странник, кроме драгоценной книги, внес тридцать три серебряных ефимка и тем взносом напугал келаря: оно хоть и не тридцать сребреников – тридцать три, а не по себе от таких щедрот.
На следующий день после появления в монастыре таинственного странника обедню служил сам игумен Паисий. В конце службы, к удивлению прихожан, вынесли Евангелие и крест, и Паисий прочитал анафемы. Самые страшные проклятья пали на голову разбойника Кудеяра.
– Проклят Богом и всем русским народом кровавый сей тать и поганый изменщик. В царствие блаженной памяти государя Ивана Васильевича привел, обойдя засеки, смердящий в веках Кудеяр крымцев на Москву. Был тот удар, как гром среди ясного неба, и в последний раз была сожжена и пограблена русская столица. За тот огонь в вечном огне гореть Кудеяру, за пролитую кровь невинных да не смоется кровь с рук разбойника. И будет он захлебываться в слезах матерей и младенцев, пролившихся на московском пожарище, но не захлебнется. Ибо вечны муки ада, ибо нет прощения изменникам.
Стращал Паисий народ:
– Да падет анафема на того, кто пожалеет Кудеяра. Кто поможет словом, или делом, или только помыслом оборотню, за грехи наши явившемуся ныне на русской земле.
На паперти Руки Кренделями все про того же Кудеяра сказывал:
– Кудеяр-то на большой реке да на мал-острове в пещере Тьмы на камне распластан. Прилетают каждое утро к нему две черные птицы, мясо с костей они Кудеяровых склевывают. А за ночь мясо нарастает. И так было и будет вовеки, потому что проклят Кудеяр.
Обнищавшие крестьяне слушали сказку вполуха. Вчерашний Кудеяр, может, и оборотень, может, и про́клятый, а для бедного человека не плох. Что имел, то и отдал. Недаром говорят: попал в беду – иди к Кудеяру, поможет.
Глава третья
Алексей Никифорович Собакин, сын Никифора Сергеевича Собакина, псковского воеводы, приехал в свою деревеньку с немцем.
Как люди посмотрели на того немца, так тут же и прозвище ему нашли. Имя от Бога, а Бог милостив. Прозвище человеку от людей: они глазастые, языкастые, уж коль окрестят, так весь ты и предстанешь тут, будто штанов никогда не нашивал и бороды не растил.
Прозвали немца Кузнечиком.
Кафтан на нем был зелененький, узенький – плечами не вздохнешь. Из-под кафтана штаны пузырями. Ножонки как ходули, не то чтоб жирком – мясцом не обросли. Палки и палки. А уход за ними немец имел такой, будто важнее ножонок в нем ничего и не было. Марфутка, дочка дворового человека по прозвищу Козел, видела, как, отправляясь на покой, полоскал немец в лохани ходули свои, тратя попусту мыло.
Утром гулял Кузнечик в атласных розовых чулках, обедать шел в лиловых, вечерял в белых.
Может, в белых-то чулках и таилась вся немецкая сила. В розовых и лиловых был Кузнечик Кузнечиком – душистый, скучный, вздыхательный. А как напялит белые чулочки да бабьи волосы кудловатые, как подхватит лютую свою виолу, сядет перед Алексеем Никифоровичем, упрет виолу в ножку и как возьмется палкой по струнам шаркать туда-сюда – тут ему и власть дана. Алексей Никифорович, послушав скрипу да стону струнного, заливался вдруг такими широкими слезами, будто перед иконами святыми на коленях стоял. И так Алексей Никифорович жалостно надрывался, так старательно прикладывал к сердцу обе руки, что у дворни навертывались на глаза слезы. Жалели боярина. Молодой, родовитый, богатый страсть, а надо же – прилепился к немцу и каждый вечер плачет, как баба никудышная.
А потом в боярских хоромах такие пошли куролесы – подумать страшно, сказать – грешно. Однако ж под окнами Алексея Никифоровича, отпугнув девок и баб, шастали теперь мужики. Верст за тридцать попужаться притопывали.
Собрал Кузнечик для Алексея Никифоровича самых видных на деревне красавиц, нарядил в белые рубахи тонкой работы, уж такой тонкой, будто бы и одет, а все равно как бы голышом. На головы лебедушкам венки нацепили и заставили перед Алексеем Никифоровичем ходить, и приседать, и поднимать ноги. А какая баба могла взмахнуть аж до самого носа, ту отличали: кормили с барской кухни, и детей этой бабы кормили.
Ладно бы Кузнечик одних женщин срамил – до мужиков добрался. Выдали мужикам, у коих пальцы были потоньше, лютни да виолы и стали гонять в хвост и в гриву, бить и за волосья таскать. Всякое с ними Кузнечик проделывал, а своего добился: научил мужиков играть жалостные и веселые музыки.
Приходил к Собакину старец, подвижник, увещевал, а вышло нехорошо. Алексей Никифорович старца того хватал за бороду и с крыльца стряхивал. Старец для проклятия грозного растворил было рот, да так и не проклял. Проворные холопы сунули святому отцу кляп в глотку, бросили в возок и отвезли в лес. Отпустили тихо, с миром, да и старец помалкивал: какие уж тут разговоры!
А немец все не унимался. Отыскал в деревне Авдотью, Аксена Лохматого жену, мать четырех крещеных детей, христианку праведную. В церкви в хору пела Авдотья, Богу и людям на радость. А немец-то, зеленый искуситель, приволок Авдотью в хоромы и велел ей разучивать заморские греховодные песни песни про любовь да про овечек.
Аксен Лохматый поклялся прибить немца оглоблей, а хоромы боярские спалить. Сам он решил податься к Кудеяру и ждал только часа, и час наступил.
2К боярской усадьбе подошел усталый пропыленный человек. Просил доложить о себе Алексею Никифоровичу. Дворня гнать человека не посмела. Одет он был по-русски, а все не по-нашенски, говорил по-русски, да больно складно. В руках же у него была коробка, точь-в-точь как у Кузнечика. В той коробке Кузнечик берег свою особую лютню.
Собакин скучал. Он вздремнул после обеда, как заведено на Руси, и теперь сидел на лавке возле окна, смотрел на дорогу и гадал.
Если бы прошел мужик, то Алексей Никифорович приказал бы заложить в дрожки тихого мерина, чтобы ехать в поля смотреть, как зреет хлеб и как на заливном Малиновском лугу мужики роют пруд. В таком пруду после паводка рыба кишмя будет кишеть.
Если бы по дороге прошла баба, Алексей Никифорович приказал бы пустить недавно пойманного молодого волка в загончик к старому сильному борову…
Однако на дороге – ни бабы, ни мужика, и Алексей Никифорович был доволен: двигаться ему, разморенному сном, не хотелось. И вдруг ввалился в покои дворовый человек Козел и, кланяясь, доложил: