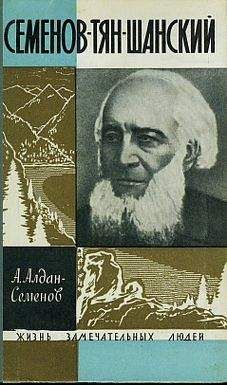Андрей Алдан-Семенов - Черский
С вершин сорвался ветер и выдул из ущелий туман. Черский увидел, наконец, Улахан-Чистай — широкое плато, обрамленное двумя горными цепями. Ни лиственниц, ни кедровника, даже ерника — карликовой березки не росло на Улахан-Чистае. Голые осыпи, мертвый седой гранит, белый ягель — олений мох. А ветер крепчал и позванивал, как бронзовый лист. Ветер задыхался от жалобных звонов и вдруг запел. В этом удручающем пенье Черский уловил и мрачные вздохи церковного органа, и посвист якутских стрел, и топот лошадиных копыт, и треск оленьих рогов.
Но все эти многоголосые звуки потонули в ураганном вое. Романтика кончилась, наступила реальность. Степан остановил караван. Путешественники кое-как поставили палатки и развели костер. Под ревущее пламя Черский уснул. Он видел удивительно ясные, но холодные сны — вершины неизвестных хребтов в тонком серебряном небе.
Он проснулся в снегу, окоченевший от холода. Лошади походили на изваяния, высеченные из мрамора, спящие спутники — на опрокинутые статуи, вьюки обратились в маленькие бугры. Сотни таких же припухших холмиков мерцали вокруг.
«Откуда они появились?» — подумал Черский, отряхиваясь от снега.
Он копнул ногой, и тотчас же со всех сторон стали взрываться и уноситься в воздух десятки таинственных бугорков. Черского осыпало мокрыми хлопьями, как цветами, оглушило хлопанье крыльев и тревожное гоготание. Захваченные снегопадом гуси опустились рядом с караваном и ночевали под снегом. Потревоженные гуси носились над Улахан-Чистаем, потом выстроились в клинья и пошли на юг.
— Счастливого пути! — закричал Черский. — Ни пуха вам, ни пера! — добавил он и рассмеялся.
Подошел Степан, тоже сияющий.
— Здорово, Иван Диментьевич? Намучились, бедные, а теперь снова айда — пошли!
— Нам тоже пора.
— А чо нам мешкать? Не дай те бог, если прихватит мороз. Потявкаем-почавкаем — и пойдем. А бояться от снега нам не приходится. Мы от снега привычные…
Через два дня Черский штурмовал третий хребет — Томус Хая. За ним начинался почти двухсотверстный спуск к реке Колыме. Караван шел по ее притоку Зырянке. От устья Зырянки было уже недалеко до Верхне-Колымска. Начались легкие морозы и, подбадривая, подгоняли путешественников.
Черский неутомимо ехал на своей низкорослой «якутке». Болезни не беспокоили его, несмотря на все тяготы путешествия. Жена и сынишка также хорошо переносили путешествие, а Генрих Дуглас не раздражал и не огорчал Черского.
Генрих работал наравне со всеми. Но был он плохим препаратором. За него добытых птиц и зверьков препарировала Мавра Павловна, а Саша без устали пополнял гербарий и спиртовал рыб. В зоологической коллекции уже имелись птицы пятидесяти шести видов.
Страсть к образцам горных пород полностью захватила Степана. На берегу Зырянки Степан принес Черскому бурый каменный уголь.
— Камень, а горит, — сказал он удивленно.
Черский сходил к залеганию бурых углей, осмотрел месторождение, записал в дневник координаты и с грустью сказал:
— Милый мой Степан! Наступит время, сюда придут люди, обживут суровые эти места. И поблагодарят того, кто нашел здесь каменный уголь. Тебя поблагодарят…
Степан крепко потер рукою затылок.
— Зарубку людям о себе было бы ладно оставить. Только я тут ни при чем. Я же и ни знал, чо уголь это, чо нет! Тебе люди скажут спасибо, Диментьич…
— Мы памяти людской не потревожим неслышными деяньями своими, — пробормотал Черский. — Чьи же это стихи? Неужели так слабеет моя память?
Утром Степан подъехал к Черскому и, показывая рукой на невысокий перевал, объявил:
— Кабыть, за тем перевалом Колыма-река.
Черский стиснул в пальцах поводья, наклонился над седельной лукой.
— Одолели! Две тысячи верст от Якутска до Колымы одолели. Шли по неизвестным местам, по местам, никем не исследованным. Одно это уже награда для географа. А впереди — новые дали, впереди — сплошные загадки и радости открытий.
И он повторил свое любимое изречение:
— Если бы люди не путешествовали, как бы узнали они о красоте и величии мира?
ГЛАВА ПЯТАЯ
Не так легко живется в мире
Чащоб, гнездовий и берлог.
Где лишь яранги юкагиров
Да в небо ввинченный дымок.
После семидесятишестидневного путешествия Черский вышел на приток Колымы — речку Ясачную.
До Верхне-Колымска оставалось сутки пути, но, как это иногда бывает, последние версты были самыми трудными. Осенние паводки прокатились по Ясачной, она вышла из берегов, затопила окрестности.
— Я спущусь на плоту до крипости. Попрошу помочи у вирхниколымцев. Пригоню карбасы и как-никак пиребиремся, — сказал Степан.
Снова сколотили из сухих лиственниц плот. Степан помахал ружьишком на прощанье и скрылся за поворотом.
Путешественники соорудили шалаш и ночевали под мелким непрерывным дождем. Черский встал на рассвете и, зная, что Степан раньше вечера не вернется, все же нетерпеливо поглядывал на Ясачную: мутная вода ее катилась распухшими валами. Истерзанный, разбитый тяготами путешествия, Черский бодрился и внешним спокойствием поддерживал дух участников экспедиции. И никто из них, кроме Мавры Павловны, не подозревал, что он устал, страшно устал.
Пасмурный день прошел в нетерпеливом ожидании Степана. Расторгуев вернулся в сумерки, пригнав два юкагирских карбаса.
Утром следующего дня жители Верхне-Колымской крепости встречали необычного и неожиданного гостя.
Если бы бог существовал, он бы назло людям создал еще несколько Верхне-Колымсков. В своих многолетних скитаниях по сибирским краям Черский не встречал еще таких неприкаянных, унылых, беспросветных мест.
Он записал в свой дневник:
«Почерневшая, хотя и не старая, деревянная церковь, развалина древней часовни, семь юртообразных домиков без крыш и без оград, со слюдяными или ситцевыми окошками, неправильно расставленных вдоль берега, — вот все, что мы увидели, обогнув последний мыс реки. Пейзаж этот украшен был уже пожелтелым лесом, поросшим по окрестной низменности, и оживлялся десятком волкообразных ездовых собак, флегматически расхаживавших по берегу. Мы салютовали месту нашей добровольной ссылки выстрелами из берданок и получили такой же ответ из винтовок вышедших на берег людей».
И в Верхне-Колымске, как ни странно и ни дико показалось это Черскому, была своя «аристократия». Возглавлял ее приказчик якутского купца Бережнева — Филипп Синебоев. В «аристократический круг» входили заштатный священник Стефан Попов и шесть его дочерей, псаломщик Георгий Попов с двумя сыновьями и заштатный псаломщик Гай Протопопов.