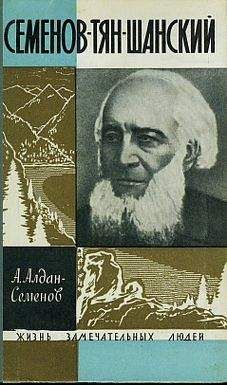Андрей Алдан-Семенов - Черский
Кривошапкин сдержал свои обещания. В день выхода из Оймякона Черский написал подробное письмо непременному секретарю Академии наук Александру Александровичу Штрауху. В заключение письма он сообщал о Кривошапкине:
«Факт его уступки в то время, когда захолустный инородец чувствовал себя в полном праве воспользоваться тяжелыми для экспедиции условиями, говорит уже сам за себя.
Поэтому я счел своим долгом обратиться к вам с покорнейшей просьбой довести до сведения Конференции Императорской Академии наук о изложенном выше поступке инородца Николая Иосифовича Кривошапкина и исходатайствовать ему какую-либо из допускаемых, в таких случаях наград и официально выраженную благодарность.
Награда Кривошапкина за оказанное содействие осталась бы в памяти инородцев и расположила бы их ко всем ученым путешественникам…»
Наступил август.
В горах уже выпал снег, а в распадках полыхала осень. Черский восторгался красотою северной природы: перед его глазами возникали картины осеннего увядания. Склоны сопок были задернуты белыми и желтыми тенетами сухого ягеля, алые озера брусники спали во мху. Громадные лапы стланика оранжевыми опахалами склонялись все ниже и ниже к земле. Еще несколько дней, и стланик ляжет по сопкам, покорно ожидая снегов. По берегам речушек, в замшелых болотах кровавыми фонтанчиками сверкали карликовые березки, лиственницы роняли иглу. Хвоя плыла невесомыми облачками над водой, а со дна речушек поднималось вверх ее отражение. Бальзамические тополя горели на берегах, как чудовищные свечи, сизые тальники лежали в воде, словно перепутанные рыбачьи сети. Хариусы и налимы проскальзывали среди прутьев или же клубились в них, шевеля плавниками. Лужицы кипрея пенились и шелестели, соединяясь друг с другом. Наконец они превратились в сплошное озеро, и Черскому было и весело ехать по цветам и жалко топтать их. Он все время приглядывался к северной природе, удивляясь ее своеобразной красоте. «Настоящий художник видит то, чего не замечают другие, — размышлял он. — Если это так, я обладаю необходимейшей способностью художника. Я ощущаю дыхание травы, вижу зеленые снега на рассвете, слышу, как поет солнечный свет в речной пене. Кисть рябины, упавшая в родник, привлекает мое внимание, мне хочется пересчитать ягоды на этой кисти. Я люблю любоваться своим отражением во льдах тарына и звездой, мерцающей из грязной лужи. И все-таки я не художник. Почему? Неужели потому, что вижу детали, частности, а не всю картину сразу? Нет, пожалуй, не так(Подлинный художник всегда связывает природу и человека. Перед ним всегда стоит человек, побеждающий или побежденный ею. Природа без человека мертва!»
Лошадь вскидывала головой, дергала поводья, спотыкалась о корневища, но Черский, погруженный в раздумья, не обращал на нее внимания. Где-то в глубине его мозга зажегся солнечный лучик и рос, и освещал его мысли, и рассеивал боли. Черскому казалось, что он будет жить долго, может быть вечно, жадный к познанию, одержимый страстью к науке и творчеству.
Погонщик-якут, ехавший сзади, запел протяжную песню. Черский прислушивался к его словам. «О чем он поет? Как печальна его мелодия, но сколько в ней чувства и нерастраченной любви! Я слышу якутские песни летом и зимой, весной и осенью. И всегда они действуют на меня с силой необыкновенной». Он натянул поводья, лошадь остановилась. Поющий якут обогнал его и скрылся за деревьями. Шум экспедиции затих, а он все сидел на неподвижной лошади, полный странного очарования и глубокого душевного успокоения. Машинально вытащил из грудного кармана истрепанную тетрадь, записал то, о чем думал: «При едва лишь пробуждающейся заре, после обычных моих наблюдений, я нередко с удовольствием слежу за таким певцом, мчащимся на четверке собак вдоль снежной пелены речного русла. Постепенно замирающая, заунывная трель эта всегда навевала на меня нечто томно-сентиментальное. Воспевал ли он красоту зари при трескучем морозе, или надежды на хороший лов налимов в заезке, к которому он направлял свою легкую нарту, — быть может, в песне той фигурировал и я — житель неведомого мира, стоявший тогда на высоте берегового склона его родной реки…»
Он тронул поводья, я лошадь послушно зашагала по тропе. Через минуту он увидел Степана, ехавшего навстречу.
— Ты что, Степан?
— Тибя вернулся разискать. Взволновался, ни случилось ли чо?
— Со мной все хорошо. Скоро думаешь устроить привал? Лошади устали, да и нам надо передохнуть.
— А вот пройдем еще одно большое ущелье, и появится озеро. Там и привалимся. Потерпи часок.
Озеро Черский увидел через пять часов — огромную черную чашу, врезанную в зеленую раму тайги. Здесь путешественники решили отдыхать целый день, чтобы набраться сил для стремительных переходов. И опять давая, но уже по-настоящему беда навалилась на них. Ночью, когда Черский спал беспробудным сном, Степан растормошил его.
— Поднимайся, Диментьич, тайга горит. Очнись, огонь подбирается к нам.
Черский вскочил. С правой и левой стороны озера, отрезая путь к отступлению, полыхало тяжелое пламя.
— Поднимайтесь! — орал Степан. — Не то изжаримся, как бурундуки!
В лагере началась суматоха. Погонщики загнали лошадей в озеро и навьючили их, стоя по грудь в воде. Мавра Павловна и Саша на лошадях отъехали как можно дальше от берега, держа в руках разные вещи и банки с заспиртованными рыбами. Черский, Степан, Генрих сбили из сухостойника помост и, нагрузив его, оттолкнули от берега.
Белый тугой дым уже заволакивал озеро, противный и тяжелый запах гари распространился по воде. Оранжевое пламя мелькало в чаще, исчезало, появлялось вновь, суетилось, торопилось, одолевая сопротивляющиеся деревья. Откуда-то появились горящие кедровки: чертя дрожащие красные линии, они погружались в воду, и озеро, шипя, гасило погибающих птиц.
Огонь выбился на берег, лиственницы и ветлы стали клониться в сторону пожара. Потоки горячего воздуха словно невидимым магнитом притягивали к себе деревья. Черная береговая стена тайги порыжела, стала лиловой и превратилась в нестерпимо вишневую.
Отдельные деревья на вишневом фоне походили на черные колонны. Струи пламени завинчивались спиралями, взлетали в небо светящимися фонтанами и, поколебавшись, с визгом обрушивались на землю.
Черский, прижимаясь плечом к Степану, стоя по горло в холодной воде, смотрел на мгновенно меняющиеся картины таежного пожара, но замечал только отдельные, несущественные вещи. Он видел, как старая мохнатая лиственница напряженно вытягивала свою вершину навстречу огню. Она тянулась всеми верхними ветвями и вдруг, будто охваченная ужасом, отшатнулась.