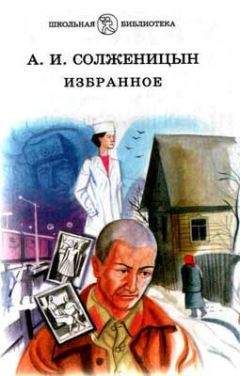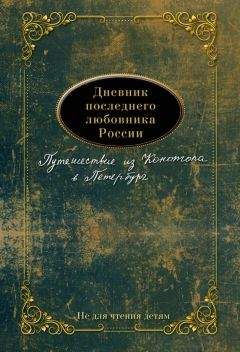Вилли Биркемайер - Оазис человечности 7280/1. Воспоминания немецкого военнопленного
Перед входом в дезинфекционный барак нам велят остричь друг другу волосы. Три табуретки, трое тупых ножниц. Каждый стрижет того, кто шел в строю перед ним. В следующем бараке — бритье. Сбривать надо волосы не только с лица, но и под мышками и между ногами. Мне, слава Богу, почти нечего сбривать, я ведь еще ни разу не брился. Стою в очереди ждущих бритья пленных, тру кусочком мыла то место и — не верю своим глазам: на меня смотрит женщина, изнуренная худая женщина, совсем молодая. Может, она медсестра или из помощниц при зенитных орудиях? Разговаривать не разрешают, тех, кто все же решается, угощают дубинкой или ударом кулака.
То одному, то другому удается попасть в баню не обритым, а для надсмотрщиков это желанный повод всыпать такому или пригрозить, что не получит еды. После бани русские офицеры или врачи каждого проверяют — нет ли головных вшей. До сих пор я не знал, что есть разница между головными и платяными вшами. Считается, что головные переносят болезни — сыпной тиф и желтуху. Тем, у кого находят головную вошь, надо натирать голову отвратительно пахнущей мазью; делает это следующий в строю, если плохо трет — получит сапогом под зад…
Санитарные условия в этом лагере описать невозможно, они совершенно ужасны. Много больных дизентерией, и все загажено — пол, нары. Может, поэтому русских почти не видно и мы отданы во власть немецкой лагерной полиции? Все новых умерших солдат оттаскивают к вырытой на краю лагеря яме, засыпают хлоркой. Никто мертвых не регистрирует, родственники никогда не узнают, где они лежат.
Вечер, мы с Ганди сидим на корточках в углу барака. Внезапно раздаются крики, громко командуют — всем из барака, бегом марш! Строимся, нас пересчитывают, и колонна, нас, наверное, тысяча или две тысячи человек, трогается. И раньше, чем я начинаю понимать, что происходит, мы уже — на какой-то товарной станции; нас грузят в вагоны по восемьдесят человек, пол устлан соломой, источающей вонь. Двери закрывают и запирают снаружи, все в страшной спешке. В ночной тишине разносятся только крики этих бестий-«антифашистов»: dawaj, dawaj! — ишь, научились у русских… А русские часовые стоят тут и там в стороне и смотрят, как их прислужники обращаются со своими же земляками. Крики замолкают, поезд трогается. Но куда и почему так внезапно?
Уже не раз на этом грустном пути в русский плен я испытывал стыд за то, что я немец, что любил свою родину и непоколебимо верил в фюрера. Но эти сволочи, эти садисты из лагеря в Дембице, наши же бывшие товарищи-солдаты, — эти меня доконали. Потерял я веру, которую хотел сохранить, — потерял навсегда!
Мы больше стоим, чем едем. Оба окошка в нашем вагоне забиты снаружи досками, изнутри еще — колючая проволока. Уже светло, сквозь щели видно взошедшее солнце. Двери открываются, слава Богу — там только русские часовые, а не эти сволочи.
Баки с едой стоят у путей. Такие же пленные, наверное, они здесь дольше нас, раздают суп и хлеб. Хорошо, что мы уже научились быть готовыми ко всему, а то немногое, что мы имеем, — всегда при нас. На первом месте — котелок, а иначе проще простого остаться без еды. Здесь раздатчики забрасывают в каждый вагон по мешку с сырой морковью. Делим спокойно, никаких больше драк, страх после побоев в Дембице, похоже, сплотил нас, так мне, по крайней мере, кажется.
Девять дней мы в вагонах, двери отворяются раз в сутки — раздают еду, выносят умерших; у нас их сегодня шесть. Я уже попривык к смерти, она всегда с нами, каждый день тихо ищет свою жертву. Мы почти не замечаем, как кто-то умирает. Некоторые потеряли всякую надежду. Что может раненый пленный солдат сам, без врачебной помощи, без лекарств, без бинтов и ваты? Ноги мои так распухают, а воспаление так дергает, что мне начинает казаться, что ног у меня уже нет. С повязкой, которую мне наложила доктор в Ченстохове, обращаюсь как с великой драгоценностью. Когда в вагоне есть место, распускаю бинты, «проветриваю» раны. Это помогает, чтобы заживало, так научил меня один пожилой солдат; но когда я вижу свои голени, начинаю сомневаться, заживут ли они когда-нибудь. Иногда меня одолевает страх, что я останусь без ног.
Что это — гной, который так ужасно пахнет? Ноги ведь еще не отмирают? Наверное, нет, иначе не болели бы так сильно…
5. ПЕРЕМЫШЛЬ
Двери вагонов сегодня открыты. Нам разрешают, даже велят выходить. Если кто пытается сделать это самостоятельно и ему это удается, то чаще всего он на ногах не удерживается и валится на щебенку. Мы с Ганди буквально сползаем вниз, повисая на руках, просто ужас. Мне кажется, что боли в ногах я уже не чувствую. Наверное, есть какая-то грань, за которой организм перестает воспринимать боль. Но тут же меня охватывает страх: а что, если мои ноги уже отмирают?
Станция называется теперь Пшемысль. Приказывают построиться, и опять мы идем, идем, идем; каждый шаг — с трудом. Наконец останавливаемся, нам разрешают сесть на землю. Охрана нас, можно сказать, оставила, часовых почти не видно; один или два, остальные ушли. «Сколько времени мы уже сидим так?» — спрашиваю я Ганди. «Сейчас поедем, — отвечает он. — Первым классом, как же иначе!»
В самом деле, подъезжают грузовые машины, мы карабкаемся в кузов. И через час езды мы — в перемышльском лагере военнопленных. Нас встречают немецкие санитары, ведут в приемный барак. Там помогают тем, кто совсем обессилел, вымыться под душем, перевязывают раненых. Тяжело раненных, все же чудом сюда добравшихся, отправляют в лазарет, лагерную больницу. Там, к сожалению, места находят только для самых тяжелых; Ганди и меня будут лечить в амбулатории. Даже есть дают здесь с учетом нашего состояния. Порции маленькие, женщина-врач, объясняет, почему так надо после перенесенного нами за последние несколько недель. Мы благодарны за заботу, только еще не умеем это выразить. Только через несколько дней начинаем осознавать этот рай за колючей проволокой. Еще случается, что пленный умирает, но мы с Ганди довольно быстро поправляемся, понемногу отходим от перенесенных ужасов. Уже не говорим только о еде и кухне. Со страстью обсуждаем этапы нашего пути сюда…
Каждый день приглашают добровольцев в рабочую команду — работа за территорией лагеря, говорят, только легкая. Мы с Ганди тоже хотим вызваться, но у нас в печенке сидит еще страх перед поляками, к тому же боимся, что не справимся — из-за ран. А возвращающиеся вечером после работы рассказывают такое, что невозможно себе представить. Все только и нахваливают поляков за помощь и русских часовых, которые этому не препятствуют. Работают небольшими группами, человек по 15–20, а иной раз и десять.