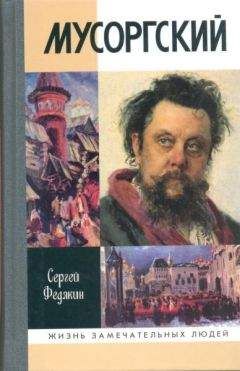Скрябин - Федякин Сергей Романович
«Сестра-смерть», эта крошечная прелюдия, которая может исполняться бесконечно, стала «вечным спутником» Скрябина в последний год его жизни. Прежние сочинения заражали своей энергией, пробуждали в слушателях жажду творчества. Магическое «светло-умертвляющее» действие этой прелюдии — способность впитывать в себя живые энергии, отнимать любое движение души, завораживая своей спокойной бесконечностью, своим «вечным покоем». Индийские раги[142] вводят в состояние нирваны, звуча непрерывно несколько часов. Скрябин подобное блаженно-смертное бездействие выразил в семнадцати тактах.
* * *
В мае 1914-го Скрябин переедет на дачу в Гривно под Подольском, в четырех верстах от станции. Двухэтажный, но сравнительно маленький дом, местность тихая, однообразная. Большой-крытый балкон, с утра просвеченный солнечными лучами. Здесь Скрябин уединялся, работая над текстом «Предварительного действа». В самые жаркие часы перебирался на балкончик поменьше, который глядел на север. В сильный дождь крыша текла, но композитор как-то не замечал неудобств. Да и дождей этим летом почти не было, лето стояло жаркое, для него — блаженное. Гостей почти не было. Недели три жил художник Шперлинг, заезжал композитор Александр Гречанинов, в июне объявился Борис Шлёцер.
Дни шли своим чередом, спокойные, похожие друг на друга. И распорядок дня был до крайности однообразен: ранний подъем, легкая прогулка после кофе, до обеда — работа, после — отдых и снова уединение со своими тетрадями, вечером после ужина — чтение. К пианино, стоявшему в гостиной, подходил редко, иногда лишь проигрывал музыкальные куски «Предварительного действа». Между музыкой и словами все еще ощущался зазор. Борис Шлёцер вспоминал тревогу композитора: «Единственное, что меня беспокоит, это текст. В музыке я чувствую себя владыкой; тут я спокоен: сделаю, что хочу. Но мне нужно вполне овладеть техникой стиха. Я не могу допустить, чтобы текст был ниже музыки, я не хочу, чтобы на стихи мои смотрели как на произведение музыканта, решившегося самому написать текст к своей музыке». Летом 1914 года приходилось — через сочинение стихов — постигать и законы поэтического языка. Он пробежал несколько раз глазами руководство по стихосложению, но, кажется, предпочел учиться не у теоретиков, а у поэтов. Читал Бальмонта, Вячеслава Иванова, Тютчева, Софокла в переводе Ф. Ф. Зелинского. Читал медленно, построчно, часто останавливаясь и что-то обдумывая. На этот раз не взял он с собой ни одной теософской книги, даже столь чтимой Блаватской. Борис Шлёцер оставит свидетельство: все неуклоннее композитор уходил от теософии. В ней все очевиднее ощущался пока неясный ему самому изъян.
Скрябин работал с упоением, ничто не могло ему помешать. Ему нравилось заниматься даже в присутствии знакомых, лишь бы не мешали разговорами. И гости иногда готовы были разделить с ним время его трудов: сидели рядом с тетрадью или книгой за большим деревянным столом, под одну ногу которого, чтобы он не качался, приходилось подпихивать сложенную в несколько раз бумагу.
План «Предварительного действа» был в целом подобен плану «Мистерии». Нужно было запечатлеть погружение Духа в материю, дробление Единого на множество, которое выразилось и в истории человеческих рас. И после — изобразить возврат от дробности, от материи — к единству, к Духу. Но весь этот путь был постигнут им через самопознание. И в «Предварительном действе» история вселенной должна была совместиться с личными переживаниями. «Моя лирика должна быть эпосом» — реплика композитора, запавшая в сознание Бориса Федоровича. И еще: «Необходимо вскрыть космической смысл каждого личного переживания; история одного чувства, одного стремления есть история вселенной».
Макрокосм должен был совпасть с микрокосмом. И воплотиться в слове с предельной точностью. Здесь-то и крылась главная трудность. Нужно было суметь найти тот образный ряд, который сумел бы выразить и его теоретические изыскания. Собственная склонность к рассудочной поэзии мучила его, и композитор готов был читать отрывки окружающим, чтобы проверить на слух, как получилось. Иногда — и сам чувствовал: «Это слишком обще, расплывчато». Зато как радовали удачи! Он знал мгновения озарения, когда в несколько минут могли прийти полнозвучные и законченные строфы. Но чаще каждая строка требовала усердия и выделки. Тогда он и открывал для себя законы поэтического языка, силу аллитераций, за которыми скоро увидел нечто большее: «инструментовку». Гласные звуки — как ему представлялось — это то же, что в музыке духовые и струнные. Согласные — это ударные.
Мы по тропам по изрытым,
Тропам, трупами покрытым…
Скрябин будет читать друзьям этот отрывок, смакуя звук «ударных инструментов»: «тр, трп, рт». «Они дают настроение чего-то мертвого, лязгающего костями — как будто ксилофон…» — пояснял он.
Увлеченный открытиями в области фонетической, он готов даже считать, что здесь не музыканту нужно учиться у поэтов, а, напротив, поэтам у музыкантов: ведь музыка стала главным и основополагающим искусством. Она живет всюду — не только во время исполнения произведения, но и в жизни, в истории, в ее катастрофических поворотах. И, значит, — музыкант лучше, нежели поэты, слышит и стихи, по крайней мере — звуковую их сторону.
Но найденные композитором «принципы оркестровки» — через группы гласных и согласных звуков — скоро показались «чрезмерностью», он заметил, что жесткое следование этому принципу делает произведение монотонным.
Просиживая часами за работой, Скрябин так углублялся в сочинение, что иногда его приходилось заставлять покинуть свой стол и пойти прогуляться. Он оправдывался: «Нужно торопиться, времени мало, не успею кончить до осени». Зачем он спешил к сроку, который сам же себе назначил? Возможно, предчувствовал: лишь до осени он может работать спокойно.
Неотвратимость перемен ощущалась, она висела в воздухе. И все-таки ту «грозу», которую он еще недавно предсказывал своему юному двоюродному брату, он не сразу распознал. Политикой не интересовался, целиком ушел в «Предварительное действо». Газеты в доме появлялись редко. «Война поэтому, — вспоминал Борис Федорович, — разразилась для нас всех совершенно неожиданно. Известие о ней потрясло, по-видимому, Скрябина; в первое мгновенье он как бы даже растерялся».
Скоро случившееся стало видеться иначе: надвигалась эпоха его «Мистерии». Война — это не просто столкновение народов. Изначально — это потрясение в «иных сферах». И чувство близости нового будущего лишь подстегивало его в работе.
«Приносили газеты, — продолжает Шлёцер, — он спускался со своего балкона; мы их читали громко, комментировали, затем он уходил к себе наверх и больше ничем другим не интересовался, кроме своей работы. И так до следующего дня. В этом не было с его стороны никакого усилия; напротив, усилие он делал, по-видимому, для того, чтобы отойти от работы. Позднее, мне кажется, по мере того как явственнее обозначался грандиозный размер событий, они глубже и сильнее захватили его, и склонен был он им придать большее значение. Но в то лето ничто не могло затронуть его; все скользило по поверхности».
Он так и не успел окончить текст «Предварительного действа» до Москвы. Погода испортилась, вести с войны приходили все тревожнее. В середине августа композитор с семьей возвращается домой. Он видит вокруг совсем иную жизнь.
* * *
Москва встретила тревогой. Сам воздух, который вдыхали его легкие, был уже совсем другой. Что-то изменилось в судьбе России, в судьбе всего мира, в его собственной судьбе.
Осень 1914 года. Толпы с русскими флагами, с иконами, с «Боже, царя храни…» и с криками «ура!», заполнявшие площади. Гимн России и гимны союзников, звучащие в театрах перед спектаклями. Доходят слухи о зверствах неприятеля, о ядовитых газах, пущенных немцами в окопы своих противников. Тревога сменяется взрывом патриотизма. Тыл живет войной, настроение подвержено переменам с каждой новой вестью с фронта. Скрябину кажется, что все это он давно предчувствовал — не только грядущие катаклизмы, но именно эту войну, которая, похоже, могла стать прологом к его «Мистерии».