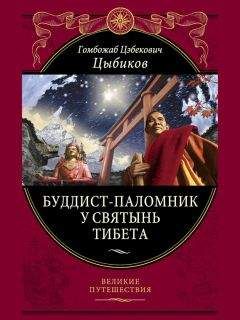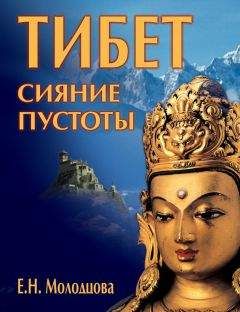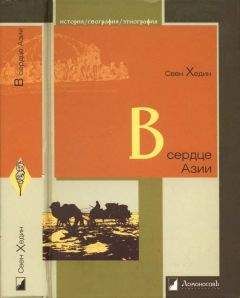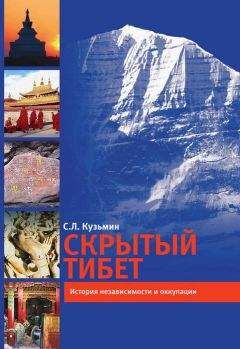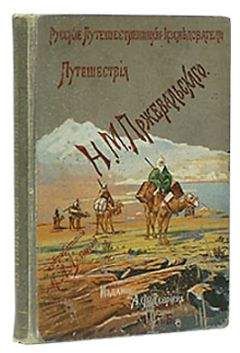Владимир Березин - Виктор Шкловский
«Так было всегда, — пишет далее Чудаков, — если тема занимала Шкловского, с неё его было не сбить. Но он не вёл её, проламываясь сквозь чужие реплики, а возвращался к ней путём развития мотивов собеседника, разрабатывая любой из них так, что казалось: он только его и ждал, чтоб развернуть в духе своей темы или в своём стиле оркестровать»{244}.
Биография Толстого написана именно как роман ещё и потому, что Шкловский пишет её через детали быта. Он рассказывает, что во время голода Толстой придумал печь хлеб по особой рецептуре — добавлять в него патоку. Хлеб становился более сытным, и патока позволяла экономить муку. Из этого получился хлеб, который теперь называют «Бородинским».
Звучит это несколько фантастично.
Однако очень убедительно: Толстой — голод — война — Бородино.
Непонятно, как было на самом деле. Деталь всегда убедительнее скучной логики истории.
Огнев писал о Шкловском:
«Говорит о Толстом и его жене, к которой испытывает смесь зависти и ревности.
Иногда кажется, что видит в Толстом — себя, а в Софье Андреевне… Симочку.
Когда он поставил точку в книге о Толстом, он позвонил мне и без предисловия сказал: „Он умер, а она пьёт чай“. И заплакал».
В. и И. Лифшиц записывали («Устный Шкловский»):
«Серафима Густавовна рассказывала о смерти Толстого в биографии, пишущейся Шкловским, так: „Витя появляется — весь в слезах, всхлипывает, шмыгает носом…
— Что случилось?!
— Толстого жалко… умирает…“»{245}.
Время от времени Шкловский возвращался к придуманному им самим сюжету — продолжению «Анны Карениной».
«Анну Каренину», кстати, часто дописывали в XX веке — не только из постмодернистских соображений, но и из соображений политических. Причём дописывали и в России, и за её пределами.
Сюжет Шкловского строился на том, как Каренины доживают до революции.
Вихрь Гражданской войны выносит их в Париж, куда бежал и Вронский, — и на фоне мировых катаклизмов их любовь не вызывает уже никакого общественного резонанса.
И вот, по Шкловскому, оказывалось, что сюжет пропадает. Конфликты в разных общественных системах разные, но сюжеты вечны.
Вся сложность — увязать их друг с другом.
«Сюжет — это когда из алмаза делают бриллиант, — сказал как-то Шкловский Чудакову, и тот сразу бросил записывать. И тогда тот продолжил: — О сюжете можно говорить только тогда, когда, как в бриллианте, материал многократно ломается. Грани преломляют свет — создаётся другая действительность. Произошло изменение хода луча восприятия».
Чудаков комментирует:
«Сам Шкловский говорил (в 1980 или 1981 г.), что лучшее, что он придумал в теории сюжета, — это два слова: „предлагаемые обстоятельства“. Предлагаемые жизнью — автору, а автором — герою. Второе — уже обстоятельства другого порядка. Этот двойной выбор, — по Шкловскому, центр истории сюжета. Много раз он говорил, что не любит аналогию искусство — зеркало. Однажды объяснил почему.
Можно было бы уточнить: два зеркала друг против друга. Как в вагоне. И вагон всё время движется. Они много раз повторяют изображение. Но ошибка этой аналогии в том, что угол падения равен углу отражения и нет угла преломления, в искусстве обязательного»{246}.
Соратники Шкловского переживали смерть своих героев. Тынянов умирал вместе с Грибоедовым, заканчивая свой роман. Он, дописывая своего «Вазир-Мухтара», звонил друзьям и сообщал о смерти Грибоедова, будто подглядывал в окно за бесчинствами толпы.
Биография Толстого писалась по-настоящему — как говорится, «собой». Она написана как роман и, по сути, романом является.
Многие писатели вживались в своего героя до состояний мистических — и, в общем, видно, что Шкловский пишет не как учёный, а как писатель про писателя.
Был ещё один человек, которого не признавали учёным, как и Шкловского. Это Ираклий Андроников[116].
В них было что-то общее — один был более писатель, чем филолог, другой более артист, чем литературовед.
Для одного путеводной звездой был Толстой, для другого — Лермонтов.
Дело в том, что Андроников в конце 1931 года был арестован по «Делу Детского сектора ГИЗа» и освобождён после того, как отец, адвокат по политическим делам, обратился к одному из руководителей Грузии Шалве Элиава. Тот, в свою очередь, написал Кирову, и двадцатитрёхлетнего Андроникова отпустили. История эта мутная и неприятная. Например, у Александра Кобринского в книге о Хармсе говорится: «Андроников выходит далеко за эти рамки, информируя следователя, — помимо своего мнения об „антисоветских произведениях“ своих друзей, — также и об обстоятельствах знакомства и личного общения, подавая их в нужном следствию ключе…»{247}
Но в мире всё прихотливо и нет ничего «наверняка» и «ясно-понятно». Все обвинения, даже если они подтверждены бумагами, подлежат сомнению. Только добрым словам о человеке можно верить сразу. Например, тому, что Андроников приютил у себя вышедшего из лагеря поэта Заболоцкого, а случилось это в 1946 году, задолго до оттепели.
Но, так или иначе, положение Андроникова было двойственным. Однако речь идёт о другой двойственности — научное сообщество не вполне принимало его не только по биографическим мотивам, но и из-за положения эстрадного артиста, причём чрезвычайно успешного эстрадного артиста.
И в этом какое-то странное сходство со Шкловским, который был тоже не вполне академическим учёным.
В предисловии к рассказу Михаила Лохвицкого «Ираклий» в «Огоньке» (1990. № 32) Виктор Конецкий вспоминал:
«Довелось мне как-то присутствовать на дне рождения Виктора Шкловского. Дело отмечалось шумно, а по левую руку от юбиляра сидел Ираклий Андроников. „Сценическую площадку“, конечно, держали эти два гиганта. Друг друга они не щадили при наличии чуть ли не столетнего товарищества. Хотя один совсем ничего не пил, а другой разрешал себе лёгкое грузинское. Но языки у обоих работали так, как в начале века. То есть пух и перья летели с обеих сторон.
Остальные — человек около сотни — просто внимали и покатывались. Боюсь ошибиться, но суть пикировки заключалась в том, что ни тот, ни другой гигант не считали себя ни писателями, ни теоретиками литературоведения, ни просто даже относящимися к литературе людьми»{248}.
Это смыкается со словами Ахматовой, переданными Лидией Чуковской в «Записках об Анне Ахматовой». Речь шла о рассказе Шкловского «Портрет», и Анна Андреевна заметила: «Совершенное ничто. Недоразумение какое-то. Полный ноль. Однажды Мейерхольд сказал мне про Любовь Дмитриевну Блок: „Я никогда не видел женщины, менее приспособленной для игры на сцене“. То же я могу сказать о Шкловском: „Я никогда не видела человека, менее приспособленного для литературной деятельности“»{249}.