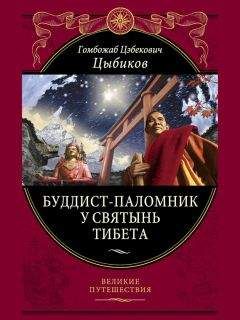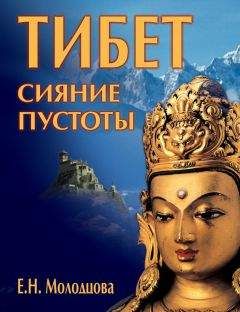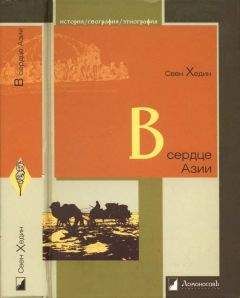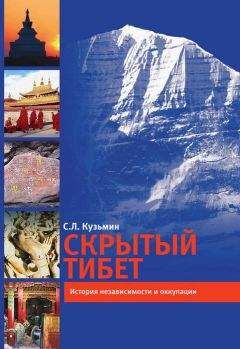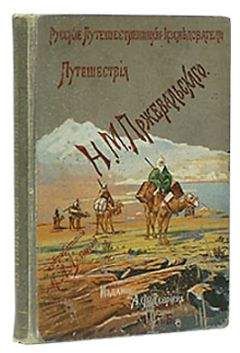Владимир Березин - Виктор Шкловский
Так что Шкловский вовсе не уникален. Никакой особой нелюбви к Пастернаку в нём не наблюдается. Более того, Шкловский, в отличие от многих обвинителей, знает «небожителю» цену — и всё же, всё же…
Да и что это было — непонятно.
Дочь Шкловского, ещё не зная всех обстоятельств дела, встретившись с ним, когда тот вернулся в Москву, сказала мимоходом:
— Как хорошо, что тебя не было в Москве…
Она имела в виду, что ему не нужно было выступать на собрании против Пастернака.
Шкловский скривил рот, но ничего не сказал в ответ.
Кой чёрт понёс Шкловского в эту ялтинскую «Курортную газету» — непонятно.
Представить, что Шкловский сделал это ради карьеры, — невозможно. Не было у него карьеры, и никакого смысла в том, чтобы бросить камень, не было.
Может, это был вернувшийся, догнавший Шкловского страх двадцатых, тридцатых и сороковых годов? Может быть, просто усталость, когда кончился запас прочности? Или корпоративный ужас писателей, которые не понимали, что происходит вдали от них, в Москве? Этого мы не узнаем никогда.
Все участники этой истории умерли.
Остались пересуды.
Глава тридцать первая
ЗЕРКАЛО ТОЛСТОГО
Толстой… описывал жизнь не такой, какой она есть, а такой, какая она должна быть.
Виктор ШкловскийКнига Шкловского «Энергия заблуждения» начинается так: «Дом Толстого в Ясной Поляне стоит как-то косо»{240}.
Это блестящее начало.
Вообще, иногда кажется, что Шкловский в любой книге следовал завету Олеши об ударных концовках (и началах) — пиши, что хочешь, а в конце поставь: «Он шёл, а в спину ему глядели голубые глаза огородов». И вот перед публикой — шедевр.
Шкловский занимался Толстым всю свою жизнь. В 1928 году в журнале «Новый ЛЕФ» он опубликовал исследование «Матерьял и стиль в романе Льва Толстого „Война и мир“». Осип Брик писал об этом исследовании: «Какая культурная значимость этой работы? Она заключается в том, что если ты хочешь читать войну и мир двенадцатого года, то читай документы, а не читай „Войну и мир“ Толстого: а если хочешь получить эмоциональную зарядку от Наташи Ростовой, то читай „Войну и мир“»{241}.
Евгений Сидоров[115] вспоминал в «Записках из-под полы», как накануне столетия романа «Война и мир», которое отмечалось в 1968 году, в журнале, где он работал, родилась идея заказать юбилейную статью Шкловскому: «Виктор Борисович воодушевился и предложил приехать к нему, дабы он подробно и наглядно, на схеме, поведал об ошибках Толстого в описании Бородинского сражения. Жаль, но пришлось отказаться от этого весьма нестандартного юбилейного проекта»{242}.
Шкловский пишет в книге «О теории прозы»:
«Толстой не верил в разум, то есть в жизнь, которая вокруг него была, и он описывал жизнь не такой, какая она есть, а такой, какая она должна быть.
Как Островский говорил, что стихи надо писать не только тем языком, которым народ говорит, но и тем языком, которым народ мечтает.
Об этом сдвиге говорил Чехов, никак не могу вспомнить где, хотя выписка сохранилась.
Чехов говорил: Я устал, я много написал, и я уже забываю переворачивать свои рассказы вверх ногами, как Левитан переворачивает свои рисунки для того, чтобы снять с них смысл и увидеть только отношение цветовых пятен.
Почти всю жизнь я занимаюсь Толстым, и Толстой у меня изменяется, как будто молодеет. Он для меня всё время впереди.
Толстой был всегда настолько молод, что завидовал Чехову, считая, что Чехов предвосхитил новый реализм. И говорил, что когда Чехов умер, то он увидел его во сне, и Чехов сказал: твоя деятельность — он говорил про проповедь — это деятельность мухи. И я проснулся, чтобы возражать ему, сказал Толстой.
Надо сомневаться в себе до последнего момента, и надо быть вдохновенным.
Маяковский говорил: „Если ты испытаешь вдохновение и в этот момент попадёшь под трамвай, то считай, что ты выиграл“.
Надо стараться превосходить самого себя и перешагивать через свой вчерашний день.
Толстой описывает Бородино не с точки зрения военнокомандующего, а с точки зрения Пьера Безухова, который как будто ничего не понимает в военном деле; военный совет Толстой описывает глазом девчонки, которая смотрит на этих генералов сверху, с печки, — как на спорящих мужиков, и она сочувствует Кутузову.
Толстой как бы не доверяет специалистам.
Не так давно на реке Чёрный Дрим слушал я какую-то румынскую поэтессу, которая читала или почти танцевала заунывные стихи, вставляя слова „аллилуйя“.
Я думал, делали ли это уже пятьдесят лет назад? Не в том дело, что это не надо делать. Это мало — делать так.
Невключение смысла в искусство — это трусость»{243}.
Шкловский часто рассказывал любопытную историю о том, как в Ясную Поляну приезжают писатели и, конечно, устраивают застолье. Время этого события — задолго до войны, потому что среди участников упоминается Бабель. И вот в этом застолье новым советским барам прислуживает старый графский лакей, подливает вина.
Шкловский отказывается, но лакей всё подходит с бутылкой и шепчет ему на ухо: «Его сиятельство так велели…» — Шкловский застывает в удивлении.
А лакей объясняет, что его сиятельство велели подливать в бокалы, исходя из шума за столом. Где утихло, тем и подливать: «Чтобы гости шумели ровно…»
Это тоже деталь — не поймёшь, выдуманная или нет.
Его интересует в Толстом всё, и любая деталь переосмысливается, примеривается несколько раз к своему месту и обстоятельствам. Вот он вспоминает о том, что Толстой призывал к безбрачию, но тут же эта мысль перетолковывается, и он говорит, что дело, наверное, в том, что Толстой ревнует своих и не своих женщин.
При этом он отмечает то, что у Толстого «несколько нравственностей»: одна нравственность — книжная, а другая — экономическая, в которой нужно брать деньги за покосы и порубы.
Чудаков записал слова Шкловского: «И в его <Толстого> прозе это видно: в одном и том же произведении мир дан то с точки зрения правды женщины, то мужчины… В самой простой документальной ленте видно больше, чем можно узнать из любых книг. Не больше — другое. Я изучал биографию Толстого, кое-что про неё знаю. Но в кадрах, снятых Дранковым, я увидел в отношениях Толстого и Софьи Андреевны для меня новое…»
«Так было всегда, — пишет далее Чудаков, — если тема занимала Шкловского, с неё его было не сбить. Но он не вёл её, проламываясь сквозь чужие реплики, а возвращался к ней путём развития мотивов собеседника, разрабатывая любой из них так, что казалось: он только его и ждал, чтоб развернуть в духе своей темы или в своём стиле оркестровать»{244}.