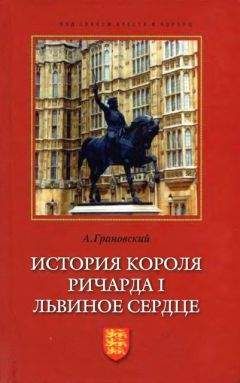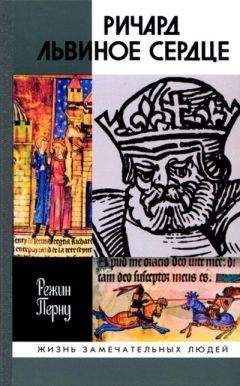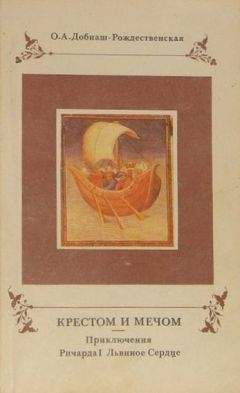Николай Оцуп - Океан времени
Для полноты картины нужно добавить, что покойная жена Сологуба, Анастасия Николаевна Чеботаревская, делала и без того трудные отношения поэта с окружающими еще более трудными. Она ссорила его со всеми, особенно с редакциями журналов. Помню чрезвычайно резкое письмо Чеботаревской в коллегию «Всемирной литературы». Письмо написано было по какому-то ничтожному поводу, но переполнено было самыми решительными и совершенно несправедливыми обвинениями редакции в неуважении к поэту.
Такова правда о характере Сологуба и Чеботаревской. Но вся ли правда?
Как мне забыть, что после страшной гибели моего брата «жесткий» Сологуб первый встретил меня в редакции одного журнала словами: «Я пешком пришел с Васильевского острова пожать вам руку в знак сочувствия вашему горю».
А желчная и неприятная Чеботаревская, по рассказам лиц, знавших ее, в самые трудные месяцы военного коммунизма делилась с бедными последним куском хлеба.
Под оболочкой не всегда приятной Сологуб, которого любят многие, если не как человека, то как поэта, вскрывает подлинную, раскаленную до ненависти любовь к людям. Но и Чеботаревская, которую, кажется, не любил никто, кроме Сологуба, была, как теперь выясняется, человеком впечатлительным и очень добрым.
Снег виднеется между колоннами Исаакиевского собора, снег лежит на крышах «Астории», у дверей которой стоит чистенький автомобиль Зиновьева, снег хрустит под полозьями каких-то чудовищных саней. На санях лежат несколько огромных бурых бревен, и старичок, обмотанный женским платком, кряхтя, втащит за собой поклажу. Я вглядываюсь в лицо старичка — Сологуб. Ему, видимо, трудно, он очень осунулся и выглядит старше своих лет. Я здороваюсь и вызываюсь помочь. Сологуб с благодарностью принимает мое предложение. Медленно подвигаемся к Васильевскому острову, разговаривая дорогой.
— Где достали бревна, Федор Кузьмич?
— За Нарвской заставой (это верст шесть от дома Сологубов).
— Забор?
— Нет, гнилые шпалы. Анастасию Николаевну надо порадовать. Она больна.
— Что с ней?
— Нервы. Скоро поедем в деревню. Даст Бог, поправится…
Этот разговор происходил в, феврале 1921 года. В деревню
Сологубы; уехали только в середине лета. Много сил перед отъездом затратили они, хлопоча о разрешении на выезд за границу. В деревню уехали, так и не дождавшись разрешения. В деревне у Сологубов была своя корова. Я слышал несколько раз от поэта рассказ о ней. Сологуб видел в этой корове все: и благополучную, сытую жизнь, и, главное, дорогостоящие паспорта заграничные для себя и для Анастасии Николаевны. Но Сологубам не пришлось уехать за границу.
В августе 1921 года умер Блок и расстрелян был Гумилев. Всю Россию потрясли эти две смерти, а для Чеботаревской, чрезвычайно. впечатлительной и нервной, весть о смерти двух поэтов оказалась убийственной. Сологуб привез в Петербург, тяжелобольную жену. Чеботаревская уверилась, что после смерти Блока и Гумилева должен погибнуть еще и третий поэт и что этим третьим будет ее Федор Кузьмич. Несчастная с болезненным напряжением прислушивалась ко всем бесчисленным и, увы, правдивым рассказам знакомых и незнакомых людей о бедствиях, переживаемых ими. Ничего сколько-нибудь утешительного она не хотела больше слушать. Ее жадность к печали стала мало-помалу душевной болезнью. Когда весной 1922 года получены были наконец долгожданные заграничные паспорта, Чеботаревская не обрадовалась нисколько.
— Какие уж там заграницы, когда все равно всё и все погибли.
Зная тяжелое состояние жены, Сологуб целыми днями оставался дома, и стерег ее, но иногда все-таки надо было выходить из дому за пайком или за гонораром. В одну из таких отлучек мужа Чеботаревская, надев валенки и наспех накинув на шею платок, выбежала из дому, добежала до Николаевского моста, бросилась в Неву и с криком «Господи, спаси» исчезла под водой.
Мне случайно привелось быть первым, узнавшим от Сологуба о несчастии. Как раз на следующий день после катастрофы. В полдень я должен был зайти к поэту по его приглашению за списком свободных для перевода стихов Верлена. Никогда я не забуду этого печального визита, Сологуб встретил меня, как обычно, не улыбаясь и не изъявляя ни радости, ни каких-либо других чувств. Безучастно поздоровавшись со мной, он помог мне снять пальто,
— Как здоровье Анастасии Николаевны? — спросил я, прежде чем войти в кабинет.
— Ее нет.
Я не понял всего страшного значения этих слов и решил, что Чеботаревской просто нет дома. Сологуб пропустил меня в кабинет и сел против меня за стол, заваленный рукописями. Из учтивости я не начинал разговора о деле, за которым пришел, и ждал, пока заговорит хозяин. Молчание длилось довольно долго. Внезапно я услышал странное бормотание. Оно становилось все более явственным. Я взглянул на поэта. Он бредил с открытыми глазами.
— Корова, — говорил Сологуб отсутствующим голосом, — я говорил жене, что, если продать корову, можно выручить деньги. Все равно они давали нам снятое молоко, а себе оставляли сливки. Она не дождалась. Я не уберег. Семнадцать лет душа в душу… мой спутник, мой единственный друг, и вот с Николаевского моста вниз головой…в воду. А может быть, не она? Нет, она… Матрос слышал: «Господи, спаси». Как рассказали мне про это «Господи, спаси» так я и понял, что это она, моя Анастасия Николаевна. Продали бы вовремя корову, не давали бы нам снятого молока…
С ужасом вслушивался я в этот бред, постепенно понимая страшное его значение.
Наконец Сологуб опомнился и указал мне ясным тихим голосом:
— Анастасия Николаевна вчера бросилась в Неву с Николаевского моста.
Сологуб перенес удар. В стихах и разговорах со знакомыми он говорил, что лишь на время расстался со своей спутницей жизни и скоро встретит ее снова.
Не так давно в Петербурге устроено было чествование Сологуба. По рассказам очевидцев, поэт без всякого удовольствия принял участие в этом торжестве, состоявшемся в наполовину пустом здании Александрийского театра. С выражением скуки слушал Сологуб высокомудрые речи товарищей по перу. Когда Андрей Белый бросился к юбиляру и восторженно стиснул ему руку, Сологуб поморщился и явственно и громко сказал:
— Вы делаете мне больно.
Только одно приветствие, по-видимому, действительно порадовало старого поэта, К концу торжества театр огласился криком, доносившимся откуда-то с верхнего яруса:
— Федя, и я хочу обнять тебя.
Через несколько минут на эстраде рядом с Сологубом показался ветхий старик, школьный учитель Феди Тетерникова. Ученик и учитель обнялись и крепко поцеловались.