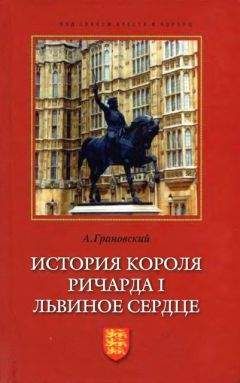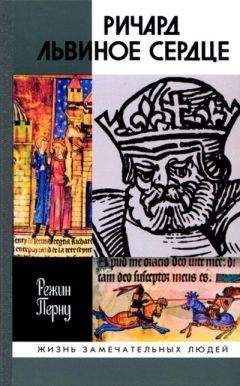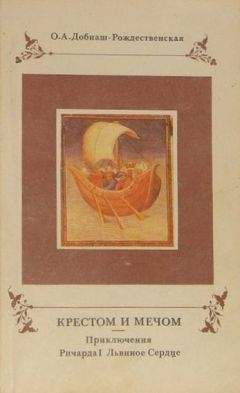Николай Оцуп - Океан времени
Все эти особенности полугениального «чудака» не мешают ему быть одним из самых значительных писателей нашего времени.
Главная сила Белого, мне кажется, в том, что каждое его слово и каждый жест ежесекундно напоминают о «бездонном провале в вечность».
Все у него на сквозняке, все угрожает рухнуть куда-то. По-своему, Белый громче кого бы то ни было кричит «Помни о смерти».
Если у читателя хватит терпения добраться хотя бы до одной из «Симфоний», или «Серебряного голубя», или даже «Москвы под ударом» — у него начинает кружиться голова.
Самые устойчивые предметы, самые тяжеловесные понятия, подхваченные каким-то вихрем, начинают кружиться в пространстве.
Среди современников Белого мало кто, говоря о нем, не обмолвится: «чудак». Скажет и не это: «фальшивый человек», «фигляр» и еще более неприятные клички нередко соседствуют с именем Белого.
Но почти каждый из его ругателей неизменно добавляет: «А все-таки это писатель почти гениальный».
Строгий и сухой на похвалу Гумилев говорил о Белом: «Этому писателю дан гений, но гений свой он умудрился погубить».
Вдохновенные писания Белого в самом деле — свидетельство какой-то катастрофы; несмотря на все свои достоинства, они всегда поражают каким-либо изъяном.
Блестящие, но математически отвлеченные схемы, замечательная, но утомительная игра слов и созвучий, редкое по силе чувство, неустойчивости и относительности всего на свете — вот приблизительно главные слагаемые сочинений этого писателя.
В сумме получается некая очень значительная дробь, но не целое число.
Какого-то слагаемого Белому не хватает.
Какого?
Вероятнее всего: внимания к реальности.
Часто «презренным» бытовикам удается уловить и запечатлеть простейшее дыхание жизни.
Белому это удается очень редко. Только говоря о России, он почти всегда находит слова, «ударяющие по сердцам».
Поезд плачется: в дали родные
Телеграфная тянется сеть,
Пролетают поля росяные,
Пролетаю в поля: умереть.
Пролетаю: так пусто, так голо!
Пролетают — вон там и вот здесь
Пролетают: за селами села…
Пролетают: за весями весь…
«Удивительна для Белого простота этих строчек. Обыкновенно у него все сложно и вычурно. Играющий на рояли — яркает грацией, яркой градацией; сумасшествие для Белого — «c ума сшествие», «нисхождение голубя Я на безумное».
Но приводить примеры, подобные этим, значило бы выдать почти всю прозу этого сложного и подчас утомительного писателя.
Мучительно было встречаться с Белым в Берлине. По многим причинам он был еще растеряннее, чем обычно. Чтобы заглушить очень сложные и мучительные огорчения и сомнения, Белый пустился плясать фокстроты. Причины этих его увлечений танцами были многим понятны, и никому не приходило бы в голову смеяться, если бы он не пытался объяснить свое «веселье» какими-то высшими соображениями.
По словам Блока, Вячеслав Иванов, чтобы повернуться на стуле, должен был обязательно как-то по-особому объяснить свое движение.
О Белом сказать то же самое было бы еще справедливее. В этом мне пришлось удостовериться в Берлине.
В двух залах танцуют. За грохотом джазбанда едва слышь слова собеседника.
Мелькают лица солидных толстяков, оттанцовывающих фокстрот, проносятся фигуры женщин: типичные берлинские фигуры могучих Амалий и Марихен.
Внезапно в толпу танцующих из соседнего маленького зала входит, почти вбегает странный человек с лицом безумным и вдохновенным. Его длинные полуседые волосы вьются вокруг большой лысины, он разгорячен и бежит к буфету, наклоняясь вперед всем телом и головой и улыбаясь своей медовой, чуть-чуть сумасшедшей улыбкой.
Не успевает он пристроиться к буфетной стойке, как рядом с ним появляются две Марихен. Они хватают его с двух сторон за руки и кричат:
— Herr Professor, Herr Professor, aber kommen sie doch tanzen…[82]
Белый (это он), не успевая освежиться лимонадом, вновь бежит танцевать.
По дороге он замечает наш столик и, на минуту оставив Марихен, присаживается к нам.
— Удивляетесь, что я танцую? — спрашивает он.
— Да нет, нисколько, это вполне естественно.
— Может быть, но я полюбил эти танцы, потому что в них дикий зов древности, разрывы времен, вы понимаете?
Ничего у Белого не просто. В самом деле, и на стуле не может повернуться просто так, чтобы повернуться. Непременно по самым высоким соображениям.
Белого можно бы назвать олицетворением переходной эпохи. Он успевает всего коснуться, но не успевает быть хозяином одной какой-либо идеи, одного чувства.
Все мелькает перед ним и в нем. Он излишком многих; понимает, слишком многому сочувствует: всюду умеет оставить частицу своего «я», но собрать в одно целое разбросанные и разрозненные частицы этого «я» ему не удается.
Футуристы учились у Белого.
Формалисты обязаны ему своим существованием.
Стилистические новшества нынешних Пильняков — подражание Белому.
Но разве не трагична судьба большого писателя, творчество которого стало материалом для новых поколений?
СЕРГЕЙ ЕСЕНИН[83]
«Стойло Пегаса». Москва. 21-й год.
На потолке ломаными разноцветными буквами изображен «манифест» имажинистов. Вот он:
В небе — сплошная рвань,
Облаки — ряд котлет,
Все футуристы — дрянь,
Имажинисты — нет.
На стене — среди ряда других цитат из поэзии имажинистов — есенинская строчка:
Господи, отелись.
Сам Есенин, красный от вина и вдохновения, кричит с эстрады:
Даже Богу я выщиплю бороду
Оскалом своих зубов.
В публике слышен ропот. Кто-то свистит. Есенин сжимает кулаки.
— Кто, кто посмел? В морду, морду разобью.
— Читай, Сережа, не обращай внимания.
Есенин не унимается. В публику протискивается молодой человек из свиты Есенина. Вид у молодого человека грозный. Все знают, что он чекист.
— Эй вы, — кричит он звонким голосом, — если кто посмеет еще раз пикнуть…
Чекист не договаривает своей угрозы, да этого и не нужно — воцаряется молчание: Есенин продолжает читать.
Глядя на самоуверенного, отчаянного, пьяного Есенина, мой спутник, так же как и я приехавший на время из Петербурга, наклоняется к уху нашего провожатого эстета москвича: