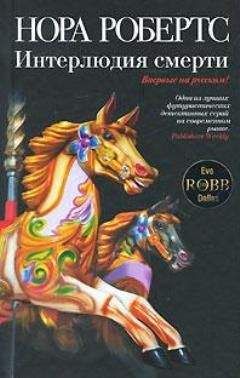Эрнст Юнгер - Семьдесят минуло: дневники. 1965–1970
Расположение у стены неблагоприятно. К вопросу об анатомии: не слишком ли далеко друг от друга расположены груди у Афродиты, даже если иметь в виду поднятые руки?
При посещении музеев следует достигать такого состояния, когда любое произведение ты можешь идентифицировать как с эпохой, так и со школой. Затем нужно забыть название, и тогда произведение обратится к душе в своем абсолютном значении. Достижение некой второй наивности.
На выходе гермафродит. Я видел во Флоренции похожего, но намного моложе, на роскошной мраморной подушке, в аналогичной позе, которая явно занимала монаха, стоявшего рядом со мной. Этот мотив определяется как тем, что пластика ягодиц и груди носит несомненно женский характер, так и подчеркнутым указанием на мужской пол. Здесь это удалось — но, к сожалению, какой-то пуританин изуродовал статую. «О il culo d'angelo!»[744], подумал я про себя. Где я такое вычитал? В одной биографии маршала Вандома.
Мы сошли у фонтана Моисея, эталонного образца крайне неестественной, литературной скульптуры. Насилие. Зато боковые фрагменты, вероятно, другой руки, прекрасны. Потом чашечка эспрессо перед кафе «Piccarozzi» на площади Республики. Два палаццо, как обрамление улицы Национале, совсем недавней постройки, однако очень ладные. Fontana delle Naiadi[745]: неоромантическая эмфаза, впрочем, удачная; вспоминаешь, к примеру, д'Аннунцио. Потом, держась дороги фонтанов, мы по via delle Quattro Fontane[746], мимо моего любимца, тритона, прошли к фонтану Баркачча[747].
Азалии близ Испанской лестницы уже отцветали. Мы пришли, чтобы поглядеть, были ли еще там битники, потому что господин Хокке рассказал нам об облаве. Однако вскоре появился замечательный экземпляр — молодой человек, совсем недавно так удививший нас своим нарядом из фиолетового бархата. Сегодня на нем был надет белый шелковый костюм с кислотно-пунцовыми лампасами, широкополая красная шляпа, красный галстук, голубая рубашка, небесно-голубые носки и белые туфли. Его сопровождала юная девушка в ярко-красном жакете и паренек, одетый столь же экстравагантно. Он задержался с ними на ступеньках лестницы и цветными карандашами подправил девушке макияж. Я, впрочем, не верю, что эти люди чего-то стоят в эротике; главное у них впустую тратится на показуху. Рядом со мной несколько одетых с ненавязчивой элегантностью сограждан, из них один: «Лет через двадцать они тоже образумятся». Возможно, или же станут отжившими мимами в промежуточном мире. Подошли и другие типы, например, северная блондинка, притащившая с собой спальный мешок.
На обратном пути в маленькой церкви Сан-Карлино; там свеча за Эрнстля; первого мая ему исполнилось бы сорок два года. Должно ли здесь быть так много колонн? Почти сплошной стеной, но все-таки превосходно. Монах с крестом: продольная перекладина красного цвета, а поперечная — синего.
Потом еще в супермаркете на пьяцца Болонья, одном из современных храмов Меркурия. Звоном кассовых аппаратов, приглушенной музыкой, контрольными зеркалами, нагромождением натюрмортов эти места обретают характер наркотического полусна. Старые рынки были жизненнее, эти — сказочнее.
РИМ, 5 МАЯ 1968 ГОДА
Воскресенье. Матесон-младший прибыл с листами для «Формозы» и «Цейлона», которые надо было подписать. С ним, его сыном Марко и Штирляйн в «Sorriso»[748]. В таверне ощущаешь другой behaviour. Звуки, шумные голоса; кроме того каменный пол, который их отражает. Приходится тоже говорить громко. Разговор об Иностранном легионе. Много лет тому назад мне удалось смягчить гнев Вильяма Матесона, когда парень сбежал туда незадолго до экзамена на аттестат зрелости. А за минувшее время он пережил и Вьетнам.
Вспомнил Бенуа, который больным лежит в Мюльхаузене. Однажды, когда мы там беседовали о старых временах, он заметил: «То, что легионеры уже выдвигались на боевые позиции не днями и неделями, а доставлялись воздушным путем, является признаком упадка».
РИМ, 6 МАЯ 1968 ГОДА
С Розелиусами в Ангуиллару, местечко, лежащее на берегу одного из круглых кратерных озер, Браччиано. Отсюда Рим в Святки снабжается угрями. Название городка связано, скорее всего, с anguilla[749]. Однако этимологи со своей стороны утверждают, что оно происходит от виллы Ангулария, которая, вероятно, стояла там, где берег образует угол. Я оставляю этот вопрос открытым. Заглянув в словарь в поисках подтверждения, я в статье «Угорь» наталкиваюсь на пословицу, которая для меня в новинку: far la serpe tra le anguille[750] — то есть передвигаться, как змея среди угрей или как ловкач среди болванов — такого рода сентенции типичны для дипломатически одаренной нации.
В Браччиано, потом в Черветери. Мы бродили по этрусскому некрополю между заросших кустами курганов — такой была исходная форма и римских надмогильных памятников тоже. Иногда мы входили в одну из мирных погребальных камер. Потом снова наружу на каменистую дорогу с древними следами колес. Соловьи пели в кипарисах, по стволам вились вверх белые розы.
Смерть как погружение в сон; это представление здесь достигнуто — идея была настолько сильной, что еще и сегодня она продолжает отзываться в том удовольствии, которое сообщают эти могилы. Никакого гроба, никакой земли; мертвецы покоятся на скамьях во вместительных камерах и семьями. Они проспали там больше двух тысяч лет, пока не пришли ведущие раскопки археологи. Мы грабим не только все накопившиеся сокровища Земли, но и вверенное ей имущество мертвых.
Лес дает образец того, что каждое поколение должно оставлять больше, чем оно застало. Это гумус, на нем покоится культура. Правда, возможно это только при помощи света, солярной силы. Энергия аккумулируется; мы же расточаем накопленное, переводя его в энергию.
Культура определяется, прежде всего, по могилам. И ее низкий уровень виден по нашим «кладбищам». К правам человека относится также право достойного приюта после смерти. На это были направлены огромные личные затраты и коллективные усилия.
В «Гелиополе» я упоминал город мертвых внутри известковых и меловых массивов — то есть места в «органической» горной породе с concession а perpetuite[751] для каждого, чтобы уберечь его от безымянности.
Тот, кто укладывает мертвых семьями, как здесь в Черветери, должен что-то смыслить в искусстве бальзамирования. Оно, как вся служба мертвым, в пределах цивилизации начинает со временем восприниматься как дело абсурдное, даже сомнительное, правда, за некоторыми исключениями. Ленин законсервирован.