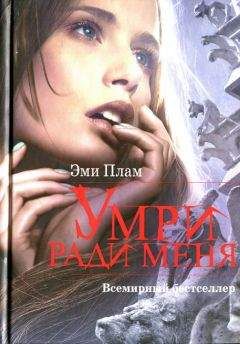Валентин Катаев - Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона
Признаться, один раз я потрогал пальцем иголку, вставленную в мембрану, и уловил шуршание слюды, в десять раз усилившей звук прикосновения шершавой кожи моего пальца к острию иголки.
Новые, еще не игранные иголки хранились в жестяной коробочке, уложенные в конвертики из черной бумаги. На коробочке было изображение все той же легавой собаки, слушающей доносящийся из трубы граммофона «голос ее хозяина».
А уже отработанные, притупившиеся иголки были целой горкой насыпаны в медную пепельницу, и мне захотелось убедиться, насколько притупились их острия. Я протянул руку к пепельнице, как вдруг совсем близко от своего лица увидел жесткий ежик и ледяные глаза Ивана Максимовича, грозно смотревшего на меня из-под сдвинутых прямых бровей.
— Не смей трогать мои вещи! — сказал Иван Максимович и крепко схватил мою руку в запястье.
Я попытался вырваться, но пальцы Ивана Максимовича были как железные. Он повернул кисть моей руки и довольно чувствительно хлопнул по ней своей тяжелой рукой с тонким модным обручальным кольцом.
Меня еще никогда никто из посторонних взрослых не шлепал. Я почувствовал такую ярость, что чуть не задохнулся. Кровь бросилась мне в лицо, застучало в висках. Я вырвался из цепких пальцев Ивана Максимовича и, с ненавистью глядя на его плоский, как щетка, ежик, на его холеные золотистые усы и бородавку на щеке, на его ненавистный, ровный, как доска, лоб и скошенный затылок, даже не закричал, а заорал так, что сразу же осип:
— Вы не имеете права драться, дурак!
Услышавши это слово, Иван Максимович, в свою очередь, побагровел, и неизвестно, чем бы кончилось это столкновение, если бы не вбежала, переваливаясь, как утка, бабушка и не уволокла меня из кабинета Ивана Максимовича в свою комнату, где так уютно пахло чистоплотной, доброй старушкой. Бабушка сделала все возможное, чтобы успокоить меня. Она гладила меня по голове, целовала мою вспотевшую шею, наконец, велела кухарке принести клубничного варенья и сбегать в лавочку за сифоном зельтерской воды. Бабушка знала, что больше всего на свете я люблю ледяную шипучую воду со свежим, только что сваренным клубничным вареньем.
Обливаясь злобными слезами и пуская пузыри, я пил из стакана бурлящую розовую смесь, покрытую легким слоем вкусной пены, выделявшей углекислый газ со свинцовым привкусом, так приятно шибавший в нос. Я пил божественный напиток, вытирая ладонью слезы, но моя злоба на Ивана Максимовича долго не проходила, и мне было горько и стыдно, что бабушка не сделала Ивану Максимовичу выговора, не выгнала его из дому.
Не посмела!
Бедная моя, бедная бабушка, попавшая в зависимость от этого подлого человека. Еще хорошо, что не было дома папы. Можно себе представить его трясущиеся губы, прыгающую бородку и напряженные вятские скулы, если бы он узнал, что его сына ударили. Он мог бы сделать что-нибудь ужасное.
Вечером за обедом, нарезая швейцарский сыр с большими слезящимися дырами, Иван Максимович с деланным добродушием как бы вскользь рассказал о нашей стычке, представив дело так, что всего лишь слегка хлопнул по моей руке, опасаясь, чтобы я нечаянно себя не поранил граммофонными иголками.
Всем стало неловко, а тетя Нина даже покраснела. Однако Иван Максимович промолчал, что я назвал его дураком, хотя я понимал, что он мне этого никогда в жизни не простит, так же точно как и я никогда в жизни не прощу ему, что он посмел меня ударить.
На первый взгляд эта история кончилась мирно и была забыта. Но лишь на первый взгляд. Для меня с тех пор Екатеринослав и бабушкин дом потеряли всякую прелесть. Возненавидев Ивана Максимовича, я уже не мог наслаждаться жизнью в Екатеринославе с его жужжащими вагончиками электрического трамвая, с его тенистым старинным потемкинским садом, где на столетних пнях сидели, сложив крылья, большие бабочки «адмиралы»; с Историческим музеем, возле которого вкривь и вкось стояли скифские каменные бабы с плоскоовальными, таинственно улыбающимися лицами; с обрывом над Днепром, где позади дома стояла, как бы повиснув над кудрявой зеленой пропастью, романтичная деревянная беседка, куда я уже несколько раз бегал на свидание с одной соседской девочкой в соломенной шляпке с голубым бантом, — забыл уже, как ее звали…; с далекими багровыми, зловещими отсветами в черном летнем небе, когда за Чечелевкой из доменной печи лили чугун; с ночными звонками Ивана Максимовича, возвращавшегося из клуба; с электрическим освещением и телефоном; с бегущим звуком колотушки ночного сторожа; с небольшими веревочными сетками вроде вуалеток, пропитанных гвоздичным маслом, которые екатеринославцы надевали поверх шляп в виде предохранения от злых днепровских комаров…
…теперь для меня от этой восхитительной жизни ничего не осталось. Она была в один миг разрушена грубостью Ивана Максимовича, а потом разбита временем, как древняя мозаичная картина, обнаруженная археологами при раскопках какого-то древнего византийского храма.
И лишь через многое множество лет, теперь, уже глубоким стариком, глядя в окно на туман, съедающий снег среди сосен, елей и берез Подмосковья, я, быть может, делаю отчаянные попытки хоть кое-как сложить осколки своей разбитой временем жизни в одну целую картину…
Беспроволочный телеграф
И вот я опять спускаюсь в глубины своей памяти, как бы переходя из слоя в слой времени. Папа явился поздно, когда я уже лежал в кроватке, закрыв глаза и делая вид, что сплю. Мама ожидала папу в столовой, облокотясь на круглый обеденный стол, и читала книгу, и я чувствовал, что она с трудом скрывает нетерпение, прислушиваясь к шагам на лестнице. Я знал, что папа пошел в «Императорское Российское техническое общество», где два раза в неделю вечером он преподавал русский язык и географию в особой, так называемой «школе десятников», где учились десятники, то есть старшие рабочие, руководители артелей, или, говоря по-теперешнему, прорабы.
Но сегодня папа пошел не на урок. Сегодня в помещении «Императорского Российского технического общества» должен был состояться в присутствии ученых, педагогов и представителей городских властей опыт передачи телеграфной депеши без проволоки.
Я был очень маленький, но уже знал, что телеграммы каким-то образом идут по проводам, по проволоке. Я всюду видел столбы с фарфоровыми изоляторами и протянутую между ними медную телеграфную проволоку. Мне очень нравились эти проволоки: то опускаясь, то поднимаясь, они бежали в окне вагона, когда нам случалось ехать в Екатеринослав к бабушке. Я не отрывал от них глаз, желая увидеть, как по ним бежит телеграмма: заклеенная в виде конвертика бумажка, на которой были налеплены ленточки с печатными буковками депеши.
![Валентин Катаев - Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона [Рисунки Г. Калиновского]](/uploads/posts/books/210189/210189.jpg)