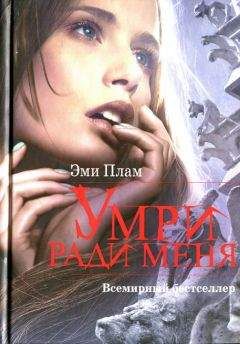Валентин Катаев - Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона
Наше паломничество, несмотря на всю свою утомительность, несмотря на страшную июльскую жару, бесконечное хождение из конца в конец по раскаленному большому каменному городу среди грохота ломовиков и дробного щелканья пролеток по булыжной мостовой, где варился асфальт, распространяя вокруг мутно-синие облака удушливого чада, несмотря на строительные леса во многих местах, преграждавшие дорогу, — Киев бурно богател и строился, и мы с удивлением провинциалов задирали головы вверх, считая этажи новых кирпичных домов, нередко восьми— и даже десятиэтажных, — несмотря на все это, паломничество наше произвело на меня неизгладимое впечатление, с новой силой пробудив в моей душе религиозное чувство, которое стало по мере моего возмужания заметно ослабевать. Впрочем, это уже не было то возвышенное, чистое, наивно-детское чувство веры во что-то прекрасное, вечное, божественное, спасительное, а скорее действовало на воображение своей грубой, пышной и таинственной церковностью, почти оперного зрелища с его хорами, огнями, золотыми декорациями царских врат и хоругвями, лиловыми, какими-то грозовыми облаками росного ладана и парчовыми одеждами священнослужителей. А не то тихое, щемящее течение великопостной всенощной в маленькой церковке с узкими окнами, за которыми так грустно и вместе с тем так любовно синеет весенний вечер со слезинкой первой звезды.
В киевских соборах с византийским великолепием их мерцающих мозаик непрерывно шли службы, пелись молебны у серебряных рак (гробов) с мощами святых; соборы были переполнены толпами богомольцев, собравшихся сюда со всех концов России, для того чтобы приложиться к высохшей, куриной лапке угодника и поставить красную или зеленую свечу у Варвары-великомученицы, или святителя Николая, или какой-то усекновенной, мироточивой главы, откуда действительно капало душистое масло.
Свечи пылали золотыми кострами у каждой иконы, украшенной ризами, усыпанными рубинами, сапфирами, изумрудами, алмазами, крупным и мелким жемчугом, к которым так не шли многочисленные аляповатые искусственные цветы из папиросной бумаги.
Здесь впервые я увидел разноцветные церковные свечи — зеленые или красные, — перевитые тонкими ленточками сусального золота. Мы покупали эти свечи и, подходя на цыпочках вслед за папой, истово крестясь, зажигали их льняные необожженные фитили от других свечей и ставили перед серебряными раками угодников и перед древними иконами, вделанными в ярко позолоченный иконостас.
Мы отстояли, наверное, четыре или пять молебнов, и папа подал две просфоры — одну за здравие, а другую за упокой. Высокий черный монах в железных очках, стоявший за конторкой, подал папе чернильницу и ручку с пером, и папа своим бисерным почерком аккуратно написал на подрумяненных подовых корочках просфорок, похожих на маленькие одноглавые древние-предревние церковки, сделанные из белого крутого теста, сначала о здравии:
…Елизаветы, Марии, Маргариты, Наталии, Клеопатры, Нины, Ивана, Петра, Валентина, Евгения…
А потом, с покрасневшими грустными глазами, так же аккуратно макая перо в чернильницу, написал длинный столбик имен за упокой усопших рабов божьих:
…Евгении, Алексея, Павлы, Михаила, Иоанна, Василия и еще множества незнакомых для меня людей, которых уже не было в живых на белом свете, а остались только черные букашки букв.
После литургии мы получили обратно свои просфорки с треугольными выемками от вынутых частиц, и папа завязал эти пропахшие ладаном и мятой просфорки в чистый носовой платок.
…мы остановились в какой-то особенной, монастырской гостинице, где монах приносил нам каждое утро большой графин рыжего монастырского удивительно вкусного кваса, где коридоры были тихи и безлюдны, а кровати в нашем номере, или даже, кажется, «келье», застланы серыми байковыми одеялами, и перед иконой горела лампадка, а платить надо было, по словам монаха — послушника с русыми кудрями и конопатым носом — сколько вам будет по средствам, — и папа платил в день семьдесят пять копеек за нас троих, хотя мог бы ничего не платить…
В четыре часа утра нас будили мощные звуки монастырского колокола, призывающего к ранней обедне, и в окно заглядывали ветки пирамидальных тополей, и виднелся мощеный двор, по которому по разным направлениям не спеша двигались черные фигуры монахов, виднелись также выбеленные одноэтажные флигели со свежевыкрашенными зелеными крышами, и во всем этом была для меня острая новизна, необъяснимая, грустная прелесть.
Разумеется, папа повез нас в знаменитые Киевские пещеры, где в толпе простонародья с тонкими свечками в руках мы спустились в бесконечно длинный, глубокий, очень узкий сухой подземный коридор с естественно закругленными глиняными сводами, где время от времени в стенах (всегда как-то пугающе внезапно) открывались ниши, в которых стояли гробы с мощами угодников, завернутых в красные канаусовые саваны, под которыми угадывались части окостеневшего человеческого тела: руки, высоко сложенные на груди, ступни ног, круглая голова с острым выступом носа, слегка приподнятая на кумачовой подушке.
Монах-проводник со свечой останавливался возле каждой ниши и заученно пояснял столпившимся вокруг него паломникам — мужикам в сапогах и лаптях и бабам в черных платочках, с котомками за спиной — краткую историю угодника.
Больше всего меня поразил гроб с медной таблицей, где было выгравировано, что здесь похоронен «летописец Нестор».
Мне всегда казалось, что летописец Нестор, о котором мы проходили в истории, это личность скорее легендарная, чем на самом деле существовавшая, выдуманная историками специально для нас, мальчиков. И вдруг передо мной оказался его большой дубовый гроб во всей своей подлинности: стоило лишь взломать крышку — и можно было собственными глазами увидеть высохшее тело или, во всяком случае, скелет с громадной сухою белой бородой самого летописца Нестора — его подлинные кости, его подлинную бороду! — моего прапрапрапращура, давно уже превратившегося в легенду и вдруг появившегося из невероятной глубины веков как вполне материальное доказательство своего существования и существования того дивного, сказочно-древнего, но подлинного мира первобытной Руси, откуда мы все произошли, чувство, так удивительно переданное Пушкиным в его Пимене.
…Недаром многих лет свидетелем господь меня поставил и книжному искусству вразумил… Да ведают потомки православных… Еще одно, последнее сказанье…
Через несколько дней, переполненные впечатлениями, нагруженные сувенирами Киево-Печерской лавры — цветными бумажными иконками, отпечатанными в заведении Фесенко, лубочным изданием печерского патерика, кипарисовыми четками, печатными колечками святой Варвары-великомученицы, бутылочками со святой водой, зелеными и красными свечками, нательными крестиками из синей финифти на серебряных цепочках, стереоскопом, через который можно было рассматривать разноцветные открытки с видами Киева и Печерской лавры, деревянными ложками с ручками, вырезанными в виде кисти руки с пальцами, сложенными как для крестного знамения, и тому подобным, — мы возвращались вниз по Днепру в Екатеринослав, и вдруг я с новой силой понял, что, в сущности, бабушкиного дома уже не существует, а есть барская квартира Ивана Максимовича, который мне с первого взгляда не понравился, а теперь я его почему-то просто невзлюбил без всяких видимых причин.
![Валентин Катаев - Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона [Рисунки Г. Калиновского]](/uploads/posts/books/210189/210189.jpg)