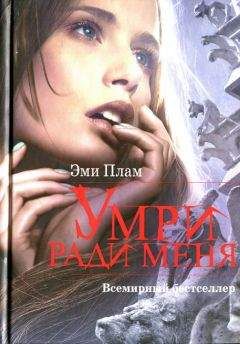Валентин Катаев - Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона
Вечеринка
Вижу в передней большой поднос, тесно уставленный чайными стаканами. Каждый стакан на четверть налит густой, как смола, заваркой. Тут же в углу кипит самовар, из всех своих отверстий выпуская струи и клубы пара, от которого зеркало на стене ничего уже не отражает, так как его стекло покрыто матовой пеленой пара. Скоро из этого самовара дольются крутым кипятком стаканы, и они станут янтарно-красного цвета, и вокруг распространится запах чая. Еще я вижу аппетитные франзоли, много нарезанной чайной колбасы с белыми пятнышками сала — чудесной, обожаемой мною, свежей, душистой, влажной чайной колбасы, с которой так приятно сдирается прозрачная кожица. Вижу я также в стеклянном блюдечке ошпаренный кипятком ярко-желтый лимон и возле него специальную роговую пилочку. И еще я вижу сливочное масло в фаянсовой масленке и горку ярко-белого, яркого до синевы наколотого сияющего сахара-рафинада.
На нашей маленькой стенной вешалке навешано множество тяжелых драповых пальто и черных крылаток, но крючков не хватает, и горы пальто навалены на подзеркальный столик, на табуреты, на стулья, даже на кресла в гостиной. Среди мужских пальто попадаются бархатные дамские салопы, ротонды, клетчатые шотландские накидки, капоры и каракулевые шапочки пирожком. На полу — ряды мелких и глубоких резиновых калош на свекольно-красной суконной подкладке с медными буковками.
Из столовой слышится говор гостей, женский смех, басовитые, как мне кажется — «бородатые» звуки оживленной мужской речи, среди которых я узнаю родные голоса мамы и папы.
Кухарка в новой, еще ни разу не стиранной кофточке с оборками, в новом коленкоровом фартуке наскоро укладывает меня в постельку, крестит и шепотом внушает, чтобы я спал, потому что у нее много дела — подавать чай, выносить окурки.
В столовой курят, и в нашем «некурящем доме» табачный дым как-то особенно волнует меня.
Я знаю, что в столовой, где вокруг стола сидят гости и о чем-то горячо спорят, перебивая друг друга, через некоторое время начнут играть на пианино. Во всяком случае, еще не обожженные свечи в подвижных пианинных подсвечниках по обеим сторонам нотной подставки уже приготовлены; кипа нот лежит на крышке инструмента рядом с деревянной пирамидкой метронома.
Этот прибор, чем-то отдаленно напоминавший гробик, всегда казался мне волшебным: стоило повернуть маленький медный крючок и отнять переднюю хрупкую, как бы сделанную из какого-то «музыкального дерева» дощечку крышечки, как сразу же обнаруживался весь простой механизм метронома — маятник, перевернутый низом кверху, где на конце его узенькой металлической линеечки находился треугольный грузик, дающий размах маятнику. Надо было лишь качнуть грузик — и маятник приходил в движение, отсчитывая время четким металлическим пощелкиванием — словно бы контролировал его течение.
Грузик метронома можно было передвигать по насечкам шкалы — вверх и вниз. Когда грузик находился на самой высшей точке, размах маятника был очень широким, томительно медленным, как бы движущимся туда и назад с большой неохотой, и между пощелкиванием метронома ложились неестественно длинные отрезки времени.
Чем ниже спускался грузик вниз по шкале, тем быстрее размахивался маятник, а когда грузик доходил до самого низа, до последней насечки, то стрелка метронома качалась с тревожной быстротой, как пульс человека, у которого температура сорок.
…с того дня, как я познакомился с метрономом, время как бы навсегда потеряло для меня свое плавное однообразие, незаметное, неощутимое движение, и я стал ощущать то его стремительную, лихорадочную быстроту, то мучительную замедленность — в зависимости от состояния своего организма или мыслей, одолевавших меня. Когда я заболевал инфлюэнцей или горячкой и, как папа выражался, «горел», то во мне как бы начиналось щелканье двух метрономов — одного с чрезвычайно замедленным размахом, другого с бешено-поспешным щелканьем, и тогда весь мой организм дрожал, как музыкальный инструмент, на котором с двумя скоростями играют хроматические гаммы, и это было мучительно, как всякая потеря точного ощущения времени, его обычной меры…
…значит, время имело много мер и, очень возможно, могло двигаться вперед и назад, — то из прошлого в будущее, то из будущего в прошлое… А может быть, времени и вовсе не было, а был лишь какой-то измеритель того, чего вовсе не существовало, со странным, щелкающим названием — «метроном»…
Лежа в кроватке, я таращил слипающиеся глаза и делал усилия, чтобы не заснуть и услышать музыку. Я знал, что сейчас перед разложенными нотами зажгут девственно-белые свечи, послышится визг круглой табуретки, может быть, снимут переднюю дощечку с метронома, и я представлял себе, как мама ударит своими растянутыми длинными пальцами по клавишам и начнется музыка, потому что эта вечеринка, эта «сходка» была также и музыкальной.
До глубокой ночи — я знал и представлял себе это — в столовой будут о чем-то спорить и будет звучать уже не доходящая до моего сознания музыка.
…музыка, музыка, музыка…
Так бывало у нас всегда, когда в передней кипел ключом самовар, светился желтый, даже на вид кислый лимон и по зеркалу струились волны пара.
Но ни разу, как я ни таращил глаза, мне не удавалось победить приступ глубокого детского сна без сновидений. Я проваливался как в яму, а когда открывал глаза, то уже было утро, в квартире все было прибрано, и только огарки свечей и пианинные подсвечники, покрытые потеками бирюзово-позеленевшего стеарина, да еще не вполне изгнанный запах папиросного дыма говорили, что вечеринка была, были споры, была музыка, но только я ничего этого не слышал, а маленький стоячий гробик уже закрытого на крючок метронома так невинно желтел в луче солнечного света.
В раннем детстве, когда еще была жива мама, и в доме у нас собирались на вечеринки папины и мамины друзья, и зажигались перед нотами свечи, и щелкал метроном, и из-под маминых бегущих по клавишам пальцев до полуночи лилась бурная, каменистая река музыки, и с восторгом произносились имена Глинки, Чайковского, Рубинштейна, — я спал крепким сном и ничего не слышал.
Я не слышал музыки, но она сама проникала в меня каким-то таинственным образом и всегда, всю мою жизнь, ничем не выказывая себя, жила в каждой клеточке моего мозга, и теперь, когда я слышу музыку, я знаю, что уже слышал ее некогда, при маме, в то время, когда перед раскрытыми нотами, испещренными таинственными муравьиными знаками, горели свечи или когда я сам сгорал от простуды и, теряя сознание, слышал щелканье метронома, в одно и то же время и растянуто-длительное и бешено-быстрое, как мой горячечный пульс, как время, которое не поддается измерению, как споры марксистов и народников, гремевшие за чайным столом, как третий сон Веры Павловны из «Что делать?» Чернышевского, как «Времена года» Чайковского, как бравурные звуки Рубинштейна…
![Валентин Катаев - Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона [Рисунки Г. Калиновского]](/uploads/posts/books/210189/210189.jpg)