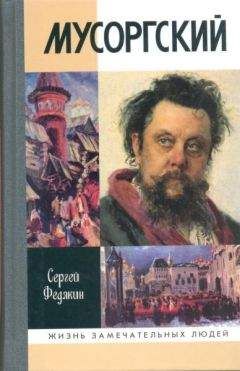Скрябин - Федякин Сергей Романович
«На эстраду, — вспоминал он, — вышел невысокий, худощавый человек с небольшой бородкой и откинутой назад головой. Внешностью и осанкой он несколько напомнил поэта Бальмонта, только манерам Скрябина было присуще изящество, некий, что ли, «аристократизм», которого у Бальмонта не было вовсе. Скрябин, как мне показалось, был настроен как-то нервозно, может быть, это ему вообще было свойственно при публичных выступлениях, а может быть, он чувствовал настороженность, недостаточное расположение к нему значительной части слушателей. Во всяком случае, в нем совершенно не было той «апломбной» уверенности, какую мы привыкли встречать у приезжающих на гастроли знаменитостей. И игра его была совсем иной, чем у всех прочих пианистов, которых мне довелось до сих пор слышать. Сидел он за роялем прямо, не наклоняясь к нему, а наоборот, как бы несколько откидывая голову назад. Мощи в звуке, виртуозной бравуры, которой по традиции должен был «ослепить» знаменитый концертант, не было вовсе, не было и большого тона в кантилене. Рояль звучал ласково, безударно, звуки как-то «порхали», взлетали какими-то гирляндами. Девятая соната излучала нерояльные вовсе тембры, не ассоциировавшиеся ни с каким вообще знакомым музыкальным инструментом, полыхала мрачным огнем. Но, пожалуй, особенно выделилось, более всего запомнилось исполнение «Странности» (как буквально, но неудачно, неадекватно принято переводить французское название пьесы «Etrangete»). Когда эта маленькая поэма пролетела над клавишами, показалось, словно странная, невиданной расцветки бабочка взвилась над залом и, прочертив в воздухе несколько причудливых узоров, исчезла где-то в пространстве. Это исполнение очаровало всех, покорило даже ту часть публики, которая с недоумевающим холодком принимала остальные номера программы. Тут дружно захлопали не только «скрябинисты» — весь зал устроил Скрябину горячую овацию, не давая ему начать следующую вещь. Неумолкающие аплодисменты, крики «бис» заставили в конце концов композитора повторить пьесу. Видимо, он сделал это нехотя — и что это было за исполнение! Прелестная бабочка, только что трепетавшая жизнью, естественностью, поэзией, превратилась в какой-то мертвый, искусственный механизм, неуклюжие подергивания которого выглядели как карикатура на то, что мы только что слышали. Трудно было поверить, что это, не побоюсь сказать, антимузыкальное, бездарное исполнение рождалось из-под тех же пальцев, что и слышанная только что гениальная интерпретация».
Этот «срыв» легче всего объяснить нервозностью композитора, его чрезмерной чувствительностью, которая ловила во множестве «темные биотоки» чуждых его музыке слушателей. Но скорее всего странность в исполнении двух «Странностей» имеет иную основу. Именно ту, что он не мог не «пересоздавать» свои произведения в момент исполнения. И это «вторичное творчество» было также подвержено капризам, как и «первичное». Только если там композитор годами мог вынашивать несколько нужных ему нот, то здесь, на концерте, его торжество могло мгновенно смениться неудачей. И если первое «перевоплощение» скрябинской «Странности» оказалось шедевром, то во второй раз бабочка так и не выпорхнула из-под его пальцев, и слушатели увидели только чудовищную, жуткую «куколку».
Вероятно, Скрябин предчувствовал такой результат, почему с такой неохотой поддался требованиям публики. Этот «бис» ломал архитектонику концерта. Да и сам Скрябин давно знал, что два раза подряд «подъем» дать почти невозможно. Но чувствовал и другое: творческая неудача имеет куда большую ценность, нежели лишенное творчества торжество. Сразу «пересочинить» пьесу невозможно, и все же постараться стоит, даже если пьеса не захочет еще раз ожить.
* * *
Сам он был далеко не единственным исполнителем своих произведений. Время знакомства и дружбы с Кусевицким — всего несколько лет — изменили в жизни Скрябина многое. Разумеется, его музыка рано или поздно нашла бы своего исполнителя и пропагандиста. Но Кусевицкий не просто много сделал для пропаганды произведений Скрябина, он ускорил приход его известности. Теперь его исполняли много и часто. Симфонические произведения Скрябина можно было услышать не только в концертах Зилоти. Его постоянными исполнителями становятся Купер, Крейцер, Сараджев, Малько… Играют Сук, Хессин, Шнеефогг. Включает в концерты Скрябина — невзирая на все, что случилось в Америке, — Василий Ильич Сафонов. Однажды он даже решается продирижировать «Поэмой экстаза». Одним из наиболее частых исполнителей по-прежнему остается Кусевицкий.
Трудно сказать, какое произведение пользуется особой популярностью. Часто звучат и все три симфонии и «Поэма экстаза». Разве что «Прометея» рискует исполнить далеко не каждый. Здесь главенствуют все те же Кусевицкий и Зилоти. В Англии «Прометей» прозвучит под управлением Генри Вуда.
Звучали и фортепианные вещи: Гофман, Игумнов, Мейчик — они уже давно включали сочинения Скрябина в свои программы. Появлялись и новые пианисты, которые умели его хорошо интерпретировать: Евгений Гвоздков, Исай Добровейн, Самуил Фейнберг… Оценил Скрябин и недавнюю ученицу Сафонова Бекман-Щербину.
Александр Николаевич услышал ее игру на одной из «Музыкальных выставок» 1912 года, организованных Марией Адриановной Дейша-Сионицкой, где музыканты могли знакомиться с самыми последними произведениями русских композиторов. Пианистка не стремилась выразить «свое», она пыталась как можно ближе приблизиться к авторскому замыслу.
Александр Николаевич попросил свою знакомую по консерваторским годам, Елену Фабиановну Гнесину, познакомить его с молодой исполнительницей. Так начались их контакты. Вслед за ними — когда Бекман-Щербина захочет «проверить» свое видение скрябинских вещей — и занятия.
К дому композитора в Николо-Лесковском переулке Елена Александровна подходила с дрожью. Он ведь и сам превосходный пианист, и вещи его столь сложны! Знала ли она, что главная трудность, с которой ей придется столкнуться, — вовсе не технического порядка?
Александр Николаевич и Татьяна Федоровна встретили ее радушно. Скрябинская деликатность была гостьей замечена сразу:
«Как вы хотите, Елена Александровна, чтобы я сказал вам мое мнение в общих чертах или показать вам все детально, что мне хочется услышать?»
Ей, разумеется, захотелось «подробностей и частностей». И стоило только заиграть 3-ю сонату, как Скрябин ее остановил.
Он сам сел за рояль. С первыми звуками пришло прозрение. Елена Александровна поражена, как неожиданно преобразилось произведение под его пальцами:
«Исполнение самого Скрябина отличалось изумительной тонкостью нюансов. Нотная запись оказывалась несовершенной для передачи всех оттенков, капризных изменений темпов и надлежащей звучности. Многое приходилось читать между строк…»
Скрябина нельзя было играть буквально. Необходимо было вживаться в его музыку совершенно особенным образом. Потому и обозначение темпа или характера произведения так часто включали редкие и даже новые термины: «с внезапной нежностью», «остро», «хрупко»… Но и здесь деликатный Скрябин не мог настаивать:
— Вам, быть может, так не нравится?
— Что вы! Очень нравится!
Поразил ее и образный язык Скрябина. Он объяснял доходчиво, с какой-то «внезапной» точностью. «Здесь звезды поют», — скажет он об эпизоде из третьей части фа-диез минорной сонаты, где требовалась особая прозрачность исполнения. В поэме Фа-диез мажор (ор. 32), показав терцию во втором такте, на которую как бы набрасывалась легкая ткань аккорда левой руки, обмолвился: «Оденьте ее!»
Простое прослушивание превратилось в серию занятий. Перед Еленой Александровной открывались новые, неожиданные краски не только в «способе прочтения» скрябинских произведений, но и в самом Скрябине. Он мог позволить себе кое-что менять на ходу, «для более полной звучности» или по другим причинам. Основа оставалась незыблемой, но детали и оттенки уточнялись и — утончались.
«Кажется, никогда в жизни я не работала с таким увлечением, как в период моих посещений Скрябина. Я старалась впитать в себя как можно больше авторских указаний и стремилась ознакомиться с большим количеством его сочинений», — вспоминала Елена Александровна. Усердие понятное: Скрябин раскрывал не просто «приемы исполнения», но и какой-то иной музыкальный план. Она запомнила эту столь часто повторяющуюся фразу: «Можно, конечно, играть и иначе, но я хочу, чтобы это было идеально!»