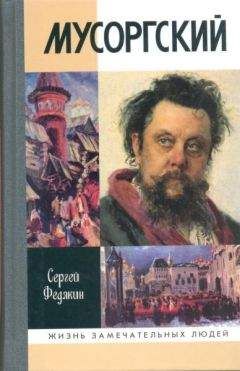Скрябин - Федякин Сергей Романович
— Какая грязь!
Александр Николаевич и сам поражался, насколько он становится похожим на Сергея Ивановича Танеева, не терпевшего гармонических «наворотов». Но ведь и сам он теперь пришел к предельной чистоте звука. Только с непривычки многим казалось, что Скрябин по-прежнему громоздит диссонансы. На самом деле в музыке он теперь целомудрен, он становится тем «Ъ-омонахом», которого ему напророчил когда-то Сафонов. Внутри своей новой гармонии он дошел до полного аскетизма. Не случайно Сабанеев будет внушать непонятливым критикам, что в музыке Скрябина вовсе нет диссонансов, как нет их, например, и в музыке Палестрины. Если так увидеть «позднего» Скрябина, если у него то, что по привычке кажется диссонансом, есть консонанс, не требующий разрешения, то «сочетаемость тем» в контрапункте становится абсолютной. Скрябин окончательно уходит от музыкальной логики, наполняя звуки метафизикой, то есть все той же идеей «Мистерии».
* * *
Он не мог все время думать о главном своем деле. Нужно было позаботиться и о заработке. Концерты становятся необходимой, хотя и нерадостной частью его жизни. Будь он обеспечен — целиком отдался бы «Мистерии». Но тогда бы мы куда менее знали о Скрябине-пианисте: о всех особенностях его игры, о магнетической связи композитора со «своей» публикой.
Перед концертом он всегда взволнован (знакомые вспоминали его частое: «Сейчас я оскандалюсь!»), но и воодушевлен. Волнение гасил несколькими глотками шампанского, выходил на сцену, садился… И дальше уже начинала говорить его музыка.
Скрябин-пианист существовал рядом со Скрябиным-композитором, и отношения их не всегда полны взаимопонимания. К ранним произведениям автор «Прометея» относился сдержанно. Признавался, что на ранние вещи смотрит «со стороны», но ему нравится играть их как пианисту. Он давно уже исполнял только себя. Но прежний Скрябин нынешнему казался именно другим композитором, звуковым «чужаком». Если и можно было включать в концерт произведения «раннего» Скрябина, то для того только, чтобы приготовить публику к более поздним. Концерт мог начинаться почти детским вальсом op. 1, от которого казался более легким уход «в дебри» поздних гармоний. Главная, редко преодолимая трудность, которая постоянно сопровождала его выступления, — недостаточная сила звука. Некоторым современникам казалось, что здесь сказывалось его хрупкое сложение. Но, вероятно, причина была иная, давняя: болезнь руки. Левая была и «виртуозней», и мощнее правой.
То, что игра Скрябина не была предназначена для «широких пространств», признавали даже друзья. Сабанеев одну из своих рецензий прямо начал с этого утверждения: «Скрябин — пианист не для больших зал»[140].
Но на малом пространстве игра эта производила магическое действие. Чем «теснее» был круг слушателей, тем чудеснее преображался Скрябин. Он сам чувствовал неотразимое воздействие собственной музыки не только на слушателей, но и на самого себя, «пьянея» от своих звуков. Его взор слегка прикрытых глаз устремлялся куда-то вдаль от клавиатуры. Как некогда еще студентом он мог на концерте дать совершенно новую нюансировку ранее приготовленной вещи, так и теперь он мог внезапно сыграть свое произведение совершенно неожиданным даже для самого себя образом. Когда он прикасался к клавишам, казалось — произведение рождается сейчас, сразу из-под пальцев. И это впечатление не было ошибочным. Он мог позволить себе не только «переакцентировать» вещь, но и «пересочинить» ее. «Весь в области своего опьянения, — вспоминала Неменова, — он никогда не бывал одинаковым и каждый раз как бы вновь создавал свои произведения. Почти никогда не следуя напечатанным общепринятым «нюансам» в сочинениях других авторов, А. Н. меньше всего придерживался этого в отношении собственноручно сделанных указаний в своих сочинениях. Иногда на мое замечание, что он здесь требовал иного, А. Н. с удивлением спрашивал: «Разве? А по-моему, так лучше»…»
Он поражал не только звуком, но и самой своей манерой, и той атмосферой вокруг концертов, где психологическое размежевание публики на «за» и «против» словно пропитывало самый воздух концертного зала. Алиса Коонен вспоминала, как Юргис Балтрушайтис однажды повел ее на скрябинский концерт в Благородное собрание.
«У входа была огромная толпа. Меня сразу же поразила атмосфера, необычная для концерта: люди стояли группами, о чем-то громко и горячо спорили, чувствовался ажиотаж, как бывает на сенсационных спортивных состязаниях. В фойе и коридорах царило такое же возбуждение. Ко мне кинулась известная пианистка Неменова-Лунц, с которой я была хорошо знакома, страстная почитательница и пропагандистка Скрябина.
— Какая вы умница, что пришли. Скрябин — это чудо!
Раздался звонок, все бросились в зал, молодежь густой толпой стояла у стен в проходах. Осветилась сцена, и в напряженной тишине показалась небольшая фигурка Скрябина. В глаза бросились капризно закинутая голова и пушистые усы. Словно не замечая неистовых аплодисментов, Скрябин, подойдя к роялю, тщательно, по-хозяйски, поправил подушку на стуле и сел. Лицо его преобразилось.
Глаза смотрели прямо перед собой, мимо рояля. Руки с какой-то удивительной легкостью едва коснулись клавишей, в то же время музыка хлынула могучим потоком. Я не замечала больше пушистых усов. Необычная, резкая для уха гармония, резкие перемены ритма — поражали. Нервный темперамент Скрябина действовал властно и требовательно. В этом маленьком человеке чувствовалась какая-то огромная покоряющая сила.
Когда Скрябин кончил играть, обрушился такой шквал аплодисментов, что, казалось, готовы были рухнуть стены. Я стояла у рампы, потрясенная чудом, открывшимся мне в этой музыке. А может быть, не только в музыке?!..
Мы долго ходили с Юргисом по сонным московским улицам. У меня было такое чувство, как будто я стремительно несусь куда-то. И еще было ощущение какого-то света и радости».
Вечно восторженный Бальмонт пишет о совершенно сходном впечатлении: «Когда он начинал играть, из него как будто выделялся свет, его окружал воздух колдовства, а на побледневшем лице все огромнее и огромнее становились его расширенные глаза».
Противников в зале бывало предостаточно. Потому друзья скрябинского творчества и старались особенно шумно выразить свое ликование в конце выступления композитора. Часто концерт заканчивался в полутемном зале, когда самые настойчивые приверженцы Скрябина собирались у сцены, внимая каждому звуку, каждому обертоновому «трепету» этой музыки, а композитор увлекался, и за последней вещью следовала еще одна, потом «самая последняя», и еще одна, и еще… В кругу настоящих друзей его мастерство возрастало до невероятной степени, исполнение утончалось до совершенства. Самые особенности его игры все более и более приближались к его поздним сочинениям. Неменова, слышавшая Скрябина в тесном кругу за границей, пишет: его исполнение «было всегда бесконечно увлекательным, воздушно утонченным, поэтичным, я бы сказала «благоухающим» и, вместе с тем, стремительно полетным». Позже в его игре звук все более и более «истончался», временами — до полупризрачного звучания. Анатолий Дроздов, «не расслышавший» Скрябина в петербургском концерте 1909 года, сумел ощутить волшебство его исполнения в конце 1911-го, на открытии Московского представительства фортепианной фирмы «Бехштейн»:
«В эту встречу он выглядел несколько постаревшим: волосы поредели, лицо пожелтело. Печать мысли, творческих переживаний яснее проступала на этом лице.
Вначале состоялась необременительная официальная часть. Затем последовала как бы музыкальная «дегустация» бехштейновского инструментария в виде исполнения Скрябиным нескольких его миниатюр (это могло быть что-нибудь из 50-х опусов). Несмотря на краткость этого выступления, оно дало мне очень многое. Впервые в этом тесном кругу, в непосредственной близости к артисту ощутил и оценил я те тайны его туше и педализации, то фортепианное дыхание, ту дематериализацию звука, которые были так характерны для его исполнения и которые сыграли такую роль в обогащении нашего пианизма».