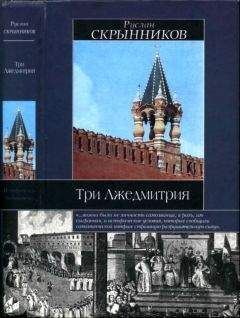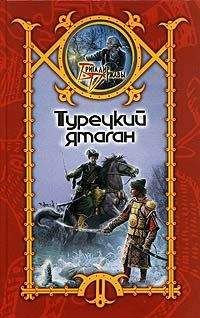Мария Башкирцева - Дневник
На этот раз – это уж настоящий успех для вас, и я очень этим счастлив. Тони Робер-Флери».
Вы, может быть, думаете, что я обезумела от радости? Я вполне спокойна. Я, должно быть, не заслуживаю того, чтобы испытать большую радость, потому что даже радостное известие застает меня в таком настроении, что все это кажется мне в порядке вещей. Я сдержанна именно как человек, который боится что «это невозможно, потому что это слишком хорошо». Я боюсь обрадоваться преждевременно… и вообще напрасно…
Среда, 3 апреля. Погода чудо как хороша… Я чувствую в себе такую силу, я верю, что могу быть настоящей художницей. Я чувствую это, я убеждена в этом.
Солнце, весна, свежий воздух – вот главный мотив моего настроения. Летом не знаешь, куда деваться от жары, зимой – от холода, летом только утра и вечера хороши. А теперь не рисовать и писать на воздухе – чистое безумие.
Поэтому с завтрашнего дня я начну… Я чувствую в себе такую силу передать все, что она поражает меня. Эта вера в себя утраивает способности. С завтрашнего же дня я примусь за картину, которая кажется мне прелестной; потом осенью, в худую погоду – другую, тоже очень интересную. Мне кажется, что теперь каждое мое начинание мне удастся, и я полна какого-то дивного упоенья…
Среда, 18 апреля. Я только что стала из-за рояля. Это началось двумя божественными маршами Шопена и Бетховена, а потом я играла сама не знаю… что выходило, но это были такие очаровательный вещи, что я еще до сих пор сама себя слушаю. Не странно ли? Я не могла бы теперь повторить из всего этого ни одной нотки, и даже не могла больше сесть импровизировать. Нужен час, минута, не знаю что… Если бы у меня был голос, как прежде, я могла бы петь вещи чудные, драматические, никому неведомые… Зачем? Жизнь слишком коротка. Не успеваешь ничего сделать! Мне хотелось бы работать над скульптурой, не бросая живописи. Не то, чтобы мне хотелось быть скульптором, но просто мне видятся такие чудные вещи и я чувствую такую настоятельную потребность передать то, что вижу.
Я научилась живописи, но я работала не потому, что мне хотелось сделать ту или другую вещь. А ведь тут – я буду работать над глиной, чтобы воплотить свои видения…
Воскресенье, 22 апреля. За обедом у нас, как почти ежедневно, много народу. Я прислушиваюсь к разговорам и говорю себе, что вот ведь все эти люди только и делают всю свою жизнь, что говорят глупости. Счастливее ли они, чем я?.. Их горести совсем другого рода, а ведь страдают они столько же, А между тем они не умеют извлекать из всего такого наслаждения, как я. Какая бездна вещей ускользает от них: все эти мелкие подробности, эти пустяки, представляющие для меня бесконечное поле для наблюдений, составляющие источник радостей, недоступных массе; а наслаждение красотой природы или деталями Парижа! Какой-нибудь прохожий, взгляд ребенка или женщины, какое-нибудь объявление, да и мало ли что еще… Когда я отправилась в Лувр – идешь по двору, поднимаешься по лестнице, на которой так, кажется, и видятся следы миллионов ног, топтавших ее, открываешь дверь, всматриваешься во всех встречных, и воображение уже создает какие-нибудь истории, где каждый играет свою роль, проникаешь мысленно в глубину души их, вся их жизнь мигом встает перед моим умственным взором. И потом другой ряд мыслей, другие впечатления и все это сплетается вместе и дает такую пеструю картину… Тут представляются сюжеты для… Чего только тут ни придумаешь! И таким образом, если я в некоторых отношениях и стала беднее других с тех пор, как оглохла, многое все-таки вознаграждает меня…
О, нет! Все, все знают это, и это, конечно, первое, о чем говорят, упоминая обо мне: «Знаете, она ведь несколько глуха». Не знаю, как поворачивается у меня рука написать это… Разве можно привыкнуть к этому?.. И еще случись это с человеком пожилым, с какой-нибудь старухой, с каким-нибудь обиженным судьбой! Но для человека молодого, живого, трепещущего, захлебывающегося жизнью!!.
Пятница, 27 апреля. Робер-Флери заходил ко мне вчера и просидел целый час. Он очень поощряет меня в моих планах относительно «Святых жен». Это очень трудно. Он говорит, что для картины такого рода нужно быть знакомым с очень многими сторонами техники, о которых я даже и не подозреваю. Например, драпировки…
– Ну так что же такое! Я и сделаю эти «драпировки» – ведь делаю же я современные костюмы.
– Это будет ни на что не похоже.
– Да почему же? Разве люди, которых я должна изобразить, не были живыми и современными?
– Все равно вы не найдете вашей картины в действительности совершенно готовой.
Я не возражаю, потому что это заставило бы меня договориться Бог знает до чего. Но здесь я должна сказать… Я не найду своей картины в действительности совершенно готовой! Скажите на милость!.. Что же из этого следует? Ведь моя картина живет в моем представлении, а действительность даст мне средства для ее выполнения.
Само собой разумеется, что при всем этом необходимо руководящее чувство… И если я обладаю этим чувством, все пойдет как нельзя лучше, а нет – так никакое изучение драпировок не даст мне того, что нужно.
В настоящую минуту я полна такой глубокой, восторженной, огромной уверенности, что это должно быть хорошо. Ведь несомненно, что силы удваиваются, когда работаешь с любовью.
Мне кажется даже, что известный порыв может победить все. Приведу вам доказательства. Например: вот уже шесть или семь лет, что я не играю на рояле, ну, то есть просто совсем не играю, разве какие-нибудь несколько тактов мимоходом. Бывали месяцы, когда я не прикасалась к роялю, чтобы вдруг просидеть за ним в течении пяти-шести часов как-нибудь раз в год. Понятно, что при этих условиях беглости пальцев не существует, и я, конечно, не могла бы выступить перед публикой – первая встречная барышня одержала бы надо мной верх.
И вот – стоит мне услышать какое-нибудь замечательное музыкальное произведение – например, Шопена или Бетховена, как меня охватывает страстное желание сыграть его, и в какие-нибудь несколько дней – в два-три дня, играя по часу в день, я достигаю того, что могу сыграть его совершенно хорошо, так же хорошо – ну, как не знаю кто.
Понеденик, 30 апреля. Только что имела счастье разговаривать с Бастьен-Лепажем. Он объяснял мне свою Офелию… Это не просто «талантливый художник». Он провидит в своем сюжете мысль, обобщение; все, о чем он говорил мне по поводу Офелии, почерпнуто из сокровеннейших тайников человеческой души. Он видит в ней не просто «безумную»: нет, это несчастная в любви; это беспредельное разочарование, горечи, отчаяние… Несчастная в любви, с помутившимся разумом! Можно ли представить себе что-нибудь трогательнее этого скорбного образа.