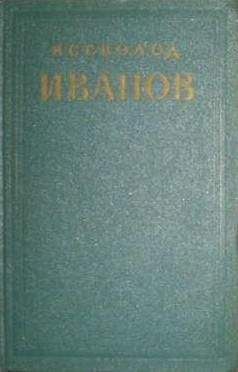Всеволод Иванов - Избранные произведения. Том 1
Я узнал его. Шибахмет положил вино, хлеб и стаканчик в карман и пошел за мной. Он покачивался, тряс халатом, прислушиваясь к звону стаканчика. Он улыбался очень протяжно. Он, видимо, радовался и тому, что встретил сибиряка, и тому, что я изумился его памяти.
— А тебе бы пораньше прийти, когда я обедал. Отличный обед был! Я бы тебя угощать стал, а теперь, вечером, я пью вино и ем хлеб, чтоб ночью брюхо легкое было.
— Сколько же тебе лет, Шибахмет! Ты все еще неграмотный?
— А ты тоже небось, Сиволот, не буквы выдергиваешь? Трестом заведуешь, поди, а? У меня сын один, так тот профессор и говорит: «Я тебя больше знаю». А я ему: «Был бы ты дурак, если бы меньше меня знал!» Я тоже большой грамоты: я детей родил четырех, и все ученые. Я мог бы, Сиволот, большие тоже должности занимать, но мне некогда! Большая должность скажет: «Сиди с портфелем в машине, Шибахмет, ты бедняк, ты управляй государством». А я говорю: вот я вам вырастил четырех, выучили вы их, они и пусть теперь управляют, а я хожу и туда и сюда и здесь и там радуюсь, мне пятьдесят лет!
— Ты по-казахски грамотный?
— И по-казахски и по-русски. Я много помню. Я помню, у тебя рубаха была сатинетовая, а пояс широкий кожаный, а я все думал: «Зачем у него такой широкий пояс, разве брюхо болит?»
Наслаждаясь своей памятью, он говорил о Павлодаре, о нашем хозяине-типографщике, о гражданской войне. Он разводил руками так, как будто в воздухе строил какие-то горбатые мосты. Изредка он потирал свою шею. Затем он схватил меня за плечи и сказал:
— Вот ты опоздал. А там что было!
И он вдруг начал читать на память, подражая голосу девушки:
— «Везде ему казалось нехорошо, но хуже всего был привычный диван в кабинете. Диван этот был страшен ему, вероятно, по тяжелым мыслям, которые он передумал, лежа на нем. Нигде не было хорошо! Но все-таки лучше всех был угол в диванной, за фортепиано…»
Слово «фортепиано» он выговорил весьма тщательно, даже как бы щеголяя своим выговором. Вообще он читал очень хорошо.
— «Он никогда еще не спал тут. Тихон принес с официантом постель и стал устанавливать. „Не так, не так!“ — закричал князь и сам подвинул на четверть подальше от угла и потом опять поближе. „Ну, наконец, все переделал, теперь отдохну“, — подумал князь…»
Он спросил, качнув меня сильными руками:
— Верно рассказал? А ты мне — неграмотный! Помрет старый князь, как полагаешь? Места не находит. Он и туда и сюда постели ставит. Вот завтра будем читать дальше, приходи — узнаешь.
— Где ты побывал, Шибахмет?
— Много ездил, много помню. Головы ломал офицерам. Догоню. Они в нас из пулеметов, а мы на них с шашкой. По голове шашкой! Пустые головы, зря выросли.
Он показал на пароход:
— И на этих «уткане» качало меня. Брюхо терзает, но предполагаю: кончится же вода! Поднимет и так подбросит, так подбросит на волне, что с нее всю свою жизнь видишь. Душа ликует, Сиволот. Так я говорю? Так ликует, что ничем не разбавишь. Красивое море, Сиволот. Зачем шумит? Много людей думало. Я тоже подумал… Чтобы любовались им, а? Играешь, старая баба, я тебе!
Он погрозил пальцем морю, рассмеялся, называя, как в юности, меня «Сиволот», продолжал:
— Я его люблю, Сиволот! Я и степь люблю. Коршун летит низко. Всего и дерево в степи, что телеграфный столб. Едешь, едешь, а все кажется — ползком. Обширная страна, а?
Он опять покачал меня за плечи, заглянул в глаза и глубоко вздохнул.
— Стою я возле моря. Льдины плывут. Оно такое сердитое, совсем стариковское, совсем седое и старое. Звери на нем седые, небо седое. Ох, а как, Сиволот, от льдин ветер подует, ой, как скучно!
— Да где это, Шибахмет?
В Хибинах камни рубил. Порубил, порубил, пошел к морю. Эти камни бросишь в землю — сам видал — хлеб уродится такой, что ладонью землю прикроешь — столько ее, — а зерна в этой ладони столько, что и ладонь твою засыплет и еще на лицо хватит. Вот какой целебный для земли камень! Рубил я эти камни, вдруг слышу: в Сочи дорогу строят через горы! Дорога широкая, самая красивая в нашей стране. Будут по ней людей возить в такие воды, что обмакнут тебя, полежишь там — и вылезешь здоровым. Ты видал эту дорогу?
— Видал.
— И пальмы видал? Сто тысяч людей провезет в год, всех обмакнет, вот какая дорога. Я много на ней топтался, много молотком стучал.
Вино переливалось в стакане. Он легонько ударил пальцем. Стакан слегка зазвенел. Он дал мне выпить, затем опять наполнил стакан и поставил его на камень. Вино горело темным багрянцем. Он щелкнул языком:
— Тоже красиво. Тоже здесь растет. Куда ни посмотришь, все красиво. Письма из дому отличные получаю, сыновья моей силе радуются. А верно! О камень ударю — сыплется. Этот удар тебе, этот тебе! Я и для тебя, Сиволот, ударю. Читал Робинзона Крузо, очень упорно человек жил, много страдал. Один! Самое страшное — один! Я бил много камня, выше себя набил щебня, все в его честь. Дон-Кихоту бил, приключения Финна бил. Максиму Горькому бил особо, три дня. Красиво думает о жизни. Оркестр мимо идет. Красная Армия, Ворошилов! Много им тоже камня бил. Я каждый день бью больше всех, а последний удар самому себе бью: молодец Шибахмет Искаков, ударник, очень веселый человек.
Он схватил стакан, выпил. Стакан он тщательно протер коротеньким полотенцем и положил в карман бешмета.
— Вот тоже Магомет был. Вино запретил. До сорока лет я не пробовал, а потом думаю: если я в князей стреляю, то разве их закон при мне остается? Взял бутылку, семнадцать рублей заплатил. Ах, какой хитрый Магомет был, себе хотел побольше оставить. «Не пей, говорит, Шибахмет!» А я — то, дурак, отвечаю: «Слушаю, ваше величество». Да ты не горы смотри, Сиволот.
Он повернул меня за плечи к морю.
— Ты сюда смотри и долго смотри. Если я рядом с тобой тяжело дышу, ты не думай плохого, я не сплю, у меня так тело сделано, что от красоты начинает трястись.
Море было колыхающегося багряно-бархатного цвета. В средине уже поднималась белоснежная дорога. В небе цвета индиго качалась оранжевая луна. Воздух тепел. В горах медный тягучий гул, словно они перед сном ворочаются и никак не могут лечь. Мы стояли неподвижно. Шибахмет, видимо, мысленно проходил по широкой дороге, которую он недавно с такой любовью прорубил в горах. Он останавливался на каждом повороте, любовался на море, которое каждый раз было иное. «Какие замечательные люди строили дорогу, — думал он, — как они понимают красоту!»
Он наклонился к моему уху и тихо сказал:
— Моя власть получает от меня полное почтение, Сиволот. И она мне благодарна, что я ей таких детей подарил. Но вот мы читаем про войну и мир и думаем: красиво, все красиво! Но почему он, Толстой, об рабочих молчал? Или дальше есть?