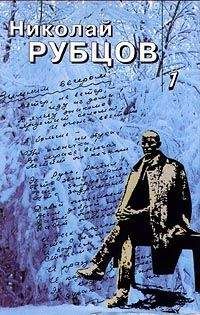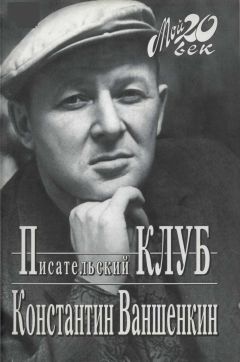Константин Ваншенкин - Писательский Клуб
Шепилов объявил, что каждый из присутствующих, кто примет участие в написании, получит вне зависимости от результата по три тысячи рублей (тогдашних денег). Потом это ему тоже поставили в вину: заигрывание с творческой интеллигенцией.
И еще он сказал, что посылать тексты нужно на его имя, а на конверте делать пометку: «Секретно. Только лично. Канцелярии не вскрывать».
И заскрипели перья.
Я написал тоже. Долго помнил наизусть, потом позабыл, правда, осталось где‑то в записной книжке. Однажды Твардовский попросил прочитать, послушал — не одобрил, размер, говорит, не тот. Прочел свое — я от оценки уклонился.
Потом, когда Шепилова уже отстранили, к идее вернулись, и многие тексты были опубликованы в «Правде», однако не говорилось, что это возможные проекты Государственного гимна. Просто патриотические стихи. Но поразительно, насколько у всех они были написаны одинаково суконным языком. Не только у Грибачева, но и у Твардовского, и у песенного Исаковского. Вот что значит гипноз правительственного заказа!
Предпринимались также попытки объединить различные тексты, для чего авторов вызывали на кратковременные сборы в Дом творчества композиторов. Я в этих мероприятиях не участвовал.
И в течение целых двадцати лет великая страна не имела Государственного гимна! Звучала только часть гимна — его мелодия. То есть старая музыка А. В. Александрова, написанная им когда‑то в качестве «Гимна партии большевиков».
Великая страна при исполнении мелодии своего Государственного гимна оставалась немой.
Но Сергей Михалков, понятно, не дремал. Он подлатал и подправил старый, прохудившийся текст и сумел убедить тех, от кого это зависело, в необходимости его нового принятия. Что и случилось в 1977 году.
Легкомыслие и безнравственность затеи били в глаза.
Как раз в то время большая писательская делегация ехала в Польшу — парадная такая делегация, с начальством во главе, — и вот мы утром заявились в банк на улице Чкалова получить командировочные в польской валюте.
Там уже висел отпечатанный золотыми буквами на лакированной бумаге текст гимна. Ну висел и висел. Но лист был не простой, а с автографом Михалкова, адресованным сотрудникам банка. Меня это совершенно изумило, и я громко делился с коллегами своим изумлением.
Кем же нужно было себя ощущать, чтобы дарить Государственный гимн СССР от собственного имени — как детский стишок или басню?
Но в Варшаве он еще не такое учудил.
На встрече в нашем посольстве он вручил Гимн Советского Союза послу Советского Союза. И, разумеется, с автографом.
То есть С. Михалков самонадеянно вручил растерянному послу нашего государства официальный символ нашего государства, коим (наряду с флагом и гербом) является гимн.
Вот куда может завести фарс.
Сейчас мы по — прежнему привычно живем без гимна. Звучит лишь его музыкальная часть. Неужели он нам не нужен?
Но мы же не раз наблюдали по телевидению, как, скажем, иностранные футболисты на чемпионатах мира — каждый только для себя — подпевают своему гимну. Наши не могут этого сделать.
Помните, Воланд в «Мастере и Маргарите» спрашивает, хохоча: «…Что же это у вас, чего ни хватишься, ничего нет!» А нам не до смеха.
В музыке существуют «песни без слов». Но гимнов без слов не бывает.
В метро, на «Библиотеке»
Пишут в книгах о том, как вернулись из лагерей уцелевшие и стали рассказывать — кто их погубил, или просто смотреть им молча в глаза, и тем, погубителям, становилось не по себе, худо.
Но вот в те времена видел я в метро, на «Библиотеке», как невысокий человек еще в ватнике, но уже с начинавшими оттаивать интеллигентными чертами лица бил встреченного им здесь, в переходе, врага, вполне приличного по виду, с портфелем в руке.
Он бил не так, как били его самого следователи и урки — не изощренно, не подло, он бил не профессионально, но сильно, — сшибал с ног и снова поднимал короткими руками, и снова бил.
— Ты посадил меня, гад, оклеветал! — кричал он и бил, бил.
Большинство проходило мимо, другие останавливались, смотрели и объясняли ситуацию любопытным. Милиции не было. Ее никто не звал, в том числе и избиваемый, ползающий на четвереньках, потерявший очки и портфель.
Среди возвратившихся были разные — и тихие, пришибленные, и жалко — оживленные, и откровенные карьеристы. И оставшиеся людьми, сохранившие свое или восстановившиеся быстро и смело.
«История партии»
К осени 1948 года в Литинституте, куда я только что поступил, был уже подготовлен для передачи в издательство коллективный стихотворный сборник «Родному комсомолу», посвященный тридцатилетию этой легендарной организации. В него включили и двух — трех первокурсников.
Однако дело неожиданно застопорилось. Начальству пришло в голову создать ударный раздел из политических, гражданских стихов, в связи с чем нескольким студентам дали срочный «социальный заказ».
Я написал стихотворение «История партии». Этими двумя словами начиналась у меня каждая строфа, а внутри четверостиший фигурировало то или иное событие партийной жизни. И была строка:
История партии… Ленин в столице.
Имелся в виду момент приезда вождя в Петроград и вскарабкивание его на броневик.
Сборник вышел. Сигнальный экземпляр принесли в общежитие, и авторы, волнуясь, рассматривали свои преображенные набором строки. Я раскрыл книжку и ахнул. Вместо приведенного выше было напечатано:
История партии… Ленин и Сталин в столице.
Я в ярости швырнул сборник на пол. Мой друг Ваня Ганабин из Южи тут же поднял его и попенял мне: нужно, мол, уважать труд своих товарищей. Я возбужденно объяснил, что меня выставили неумехой, неспособным соблюсти стихотворный размер. Кто и зачем вставил мне Сталина? При чем он здесь?..
В комнате, кроме нас двоих, было еще трое: Иван Завалий из Прилук, Сашка Шабалин из Коврова — все мы фронтовики, и молодой чувашский парень Гоша Ефимов. Стоило кому‑то из них не то чтобы специально стукнуть, но мимоходом где‑то сказать: возмутился появлением товарища Сталина, бросил книгу на пол… И все.
Нет, хорошие со мной учились ребята.
Хрущев и «заец»
В период активной подготовки хрущевских реформ по правописанию на страницах печати проводились под видом дискуссий разъяснения, убеждающие в их правоте.
Суть идеи была предельно очевидна. Хрущева, увы, ставила в тупик и потому раздражала сама необходимость писать не так, как произносится. Классический из предложенных им примеров — «заец».