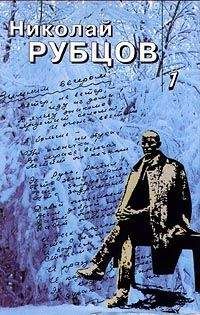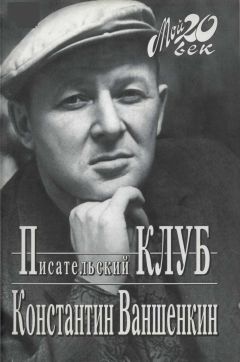Константин Ваншенкин - Писательский Клуб
— Дмитрий Алексеевич, он такой лирик! — завосхищался тот…
Я тоже сказал, что против исключения.
— Спасибо. — Поликарпов направился к столу, а мы вышли.
Твардовский много времени спустя объяснил мне как‑то, что Поликарпов приехал в Союз контролировать исключение. Однако, как человек опытный, в какой‑то момент засомневался в целесообразности этого акта. Сам он, разумеется, не мог хотя бы приостановить события и отправился звонить Суслову, пославшему его, а по дороге для большей уверенности поинтересовался мнением еще нескольких писателей.
Суслова на месте не оказалось, и Поликарпов вернулся в зал, где дело шло к концу.
А дозвонись он, может быть, сюжет бы изменился? Не знаю, но что‑то не верится.
Теперь в зале сам собой установился определенный порядок: люди выступали просто подряд, один за другим, — как сидели. Когда моя очередь стала приближаться, я встал и вышел — будто покурить. Одновременно со мной вышли из зала Алигер и Арбузов — из тех, кого я видел. Тут же я поехал домой.
На том заседании «отщепенец Пастернак» (так сказано в постановлении) был исключен из членов Союза писателей.
А через три дня состоялось общее собрание писателей города Москвы на эту же тему. Оно проходило напротив, через улицу, в тогдашнем Доме кино. Председательствовал
С. С. Смирнов, руководивший тогда московской писательской организацией. Он вел собрание спокойно, внимательно, порой увлеченно.
Народу пришло — уйма. Те, что присутствовали на предыдущем заседании, были уже сыты этим, болтались по фойе. Дело, по сути, было сделано.
Но в теперешней резолюции фигурировала еще и такая формулировка: «Собрание обращается к правительству с просьбой о лишении предателя Б. Пастернака советского гражданства». Известная поэтесса, старенькая, но еще вполне бодрая, востроносенькая, с белыми кудельками, вносила поправку из зала. Смирнов не слышал, переспрашивал.
Она повышала голос:
— Там говорится, пускай он будет изгнанником. Но слово «изгнанник» звучит слишком жалостливо, сочувственно. Нужно жестче: пусть он будет изгоем…
Но это ладно. Хуже, что среди выступавших были люди, которых я любил и сейчас люблю, особенно два прекрасных поэта, — с ними‑то что случилось? И того, и другого это мучило потом до конца.
Перед голосованием мы стояли в фойе, у раскрытых задних дверей, напротив сцены, — я, Трифонов, Винокуров и еще небольшая толпа. И так у каждой двери. Мы были вне зала, и таким образом присутствовали, но не голосовали. Наивно, конечно, и немного стыдно даже, но так было. Тогда это казалось чуть ли не смелостью.
Зачитали резолюцию.
Смирнов спросил почти подряд:
— Кто за? Кто против? Кто воздержался? — и заключил: — Принято единогласно. На этом общее собрание писателей Москвы объявляется…
Тут одни повалили из зала, а другие, напротив, в зал, услышав, что какая‑то пожилая женщина закричала с места:
— Неправильно! Не единогласно. Я голосовала против…
Сергей Сергеевич сначала сделал вид, что не слышит ее,
но она приблизилась к сцене, и он вынужден был спуститься к ней. (Но что значит — вынужден? Последующие литературные руководители вряд ли бы спустились.)
Она горячо втолковывала ему что‑то, он нагибался к ней, оправдывался.
— Кто это? — спрашивали кругом.
— Аллилуева.
— Писательница?
— Да, реабилитированная. Из той семьи…
Это была Анна Сергеевна Аллилуева, сестра Надежды Сергеевны. Свояченица Сталина.
Потом я прочитал роман. Помимо прекрасных стихов, подаренных автором своему герою, глубоко запали, запомнились не сюжетные линии, а картины зимней ночной и иной Москвы, уральского имения, остановившегося на перегоне поезда, звуки дальней стрельбы, ощущение смутной, нарастающей тревоги.
И еще. Опубликуй «Новый мир» этот роман тогда, большинство подписчиков журнала не дочитало бы его до конца. Говорю это, разумеется, не в укор художнику. Это типичная проза Пастернака — для подготовленного читателя высокого уровня.
И, конечно, ничего предосудительного там нет. Впрочем, теперь это ясно почти каждому.
Потрясенные американцы
В самом начале шестидесятых Москву посетила делегация американских писателей, первая после длиннейшего перерыва. Респектабельная компания: седовласый мистер Эдвард Уикс, редактор журнала «Атлантик», критик Альфред Кейзин (он и сам писал прозу), драматург Педди Чаевски, — только что у нас прошел фильм «Улица Марти» по его сценарию, и, наконец, политолог Артур Шлезинджер — младший, в скором будущем советник президента.
Собрались в Малом зале ЦДЛ, — новое его здание было совсем недавно построено.
С нашей стороны тоже всего несколько человек — Леонид Леонов, Валентин Катаев, Маргарита Алигер, получившая мировую известность после того, как на нее во время загородной встречи с деятелями искусства кричал и топал ногами Хрущев. Был еще специалист по роману (как жанру) Михаил Матвеевич Кузнецов, в просторечии — Михмат. И мы с Инной Гофф, — нас‑то вообще непонятно почему пригласили.
Вел встречу Алексей Сурков.
Он призвал присутствующих представить себе, что стол, за которым они сидят, — круглый, хотя тот, как он выразился, несколько угловат.
Сурков относился к той категории окающих, от которых остается впечатление, что они окают и в словах, где отсутствует «о».
Начали элегично, разминочно. Американцы рассказали, что во время полета над нашей страной они поражались обилию лесов и думали о том, как много мы можем изготовлять бумаги и издавать прекрасных книг. Кто‑то из наших ответил, что в Америке отличная полиграфия, и две — три минуты ушло на обмен комплиментами.
И вдруг один из них невинно произнес:
— А сейчас кто‑то должен сказать что‑нибудь неприятное…
А другой мигом подхватил, задал вопрос:
— Вмешивается ли партия в дела литературы?..
Повисла тишина, но Сурков тут же предложил ответить Леониду Максимовичу Леонову. Американцы понимающе закивали: Леонов!
Нужно заметить, что на встрече сидело несколько наших переводчиц из иностранной комиссии, опытных, сообразительных, реагирующих мгновенно. За спиною буквально каждых двух — трех участников. Так что трудностей с пониманием не было.
Леонов сказал следующее (это, разумеется, не стенограмма, но за точность изложения ручаюсь):
У него две дочери. Сейчас это взрослые женщины — он назвал их профессии. А когда‑то они были девочками.
Американцы слушали очень сочувственно и серьезно.