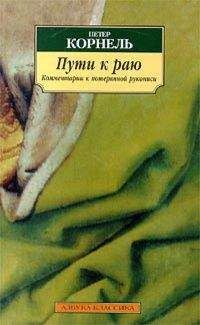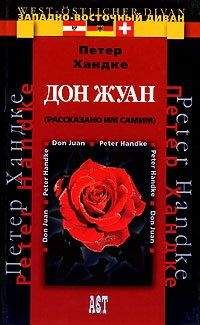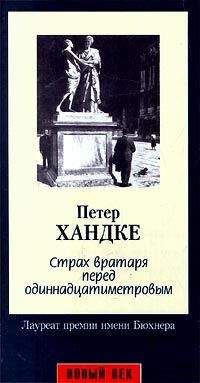Петер Вайдхаас - И обратил свой гнев в книжную пыль...
Да, мне явно недоставало истинного авторитета. Трудности восстановления хозяйства в послевоенное время, требовавшие от поколения отцов полной отдачи сил, привели к тому, что подрастающие юнцы были предоставлены самим себе. Мы беспомощно озирались, потеряв ориентиры, а все, что происходило в обществе вокруг нас, внушало нам отвращение.
Первая издательница, встретившаяся мне на моем жизненном пути, была тощей, немного истеричной женщиной — я познакомился с ней за столиком в ресторанчике, завсегдатаями которого были мои родители. У фрау Ирены Зецкорн-Шайфхакен было небольшое издательство, в котором она продуцировала плохо изданную научно-педагогическую литературу, делая это исключительно ради собственного времяпрепровождения, поскольку у ее терпеливого и добродушного мужа была хорошо отлаженная фабрика. Фрау Зецкорн-Шайфхакен жеманно изображала из себя интеллектуальную даму в этом седовласом кругу, и я бы наверняка давно уже позабыл ее, если бы не проявленная чрезмерная доброта ко мне, многообещающему молодому человеку, которого она пригласила на один из своих воскресных литературных утренников на виллу супруга-фабриканта, где скучный профессор педагогики прочел доклад на тему «Авторитет — спасение для незащищенного сознания».
В моей памяти не осталось ничего, кроме самого названия доклада, но именно оно и стало для меня программным. Подлинный авторитет убеждает своими знаниями, достоверностью сказанного и проявлением себя как личности. Своей уверенностью он внушает чувство надежности, создает вокруг себя безопасное пространство посреди царящего хаоса и дезориентации. Мне захотелось стать таким авторитетом, олицетворяющим собой спасение!
Но серые будни этого городка не могли предложить подростку, отягощенному к тому же еще проблемами полового созревания, никаких идеалов для подражания или хотя бы наставить его на путь достижения заветной цели. Пустота и скука были лейтмотивами этой жизни, не авторитеты, а авторитарные требования со стороны семьи, учителей, взрослых давили на неокрепшее сознание подростков. И я, во всяком случае, реагировал на это самым неподходящим образом — замыкался, грубил и убегал из дома.
Сначала это происходило инстинктивно, эмоционально и неосознанно. Я не признавал больше учителей, не принимал «промывания мозгов» со стороны священника, вообще вел себя ужасно. Забросил учебу, вызывающе держался по отношению к любому так называемому достойному уважения человеку. Из первой школы меня выгнали за то, что на уроке истории при восклицании учителя «И это падение стало историческим фактом!» я подбил весь класс попадать со стульев. Вторую школу мне пришлось покинуть, потому что в контрольной по физике на тему баллистики я написал к вопросу о метании коротенький рассказик про песика и его маленькую собачку-подружку, где «физическая» проблема логично разрешилась «помётом». Официальное обоснование для исключения меня из школы гласило: «сексуальное извращение».
Я «вылетел за дверь», чувствовал себя потерянным и страдал от гнетущего ощущения, что «все же надо кем-то стать». Я беспомощно плыл во времени, бесцельно проводя дни, словно Нахтигаль — вымышленный мною художественный образ, с которым меня внутренне многое связывало. Но оказавшись за городом, я облегченно вздыхал, поднимал большой палец и уезжал «автостопом» куда подальше, и вся агрессивность моментально выветривалась из меня — я наслаждался свободой. Но приходилось возвращаться, и тогда бешенство переходило в депрессию и отчаяние и оборачивалось ненавистью к самому себе.
В перерывах между побегами из города, то есть главным образом зимой, я ходил в вечернюю школу, при этом давно уже не жил дома, а снимал маленькую чердачную каморку над крышами Мюльхайма и зарабатывал себе на жизнь тем, что разносил письма, нанимался разнорабочим на металлургический завод или стройку.
В поисках жизненных идеалов и умения ориентироваться я начал читать. Но обращался с литературой точно так же, как и со своей молодой жизнью, когда без конца пускался в бега и бродяжничал. Прицельного чтения не получалось, я пустил все на самотек. С головой погружаясь в книги, читал и «проживал» их, пока не добирался до конца. А закончив читать и закрыв книгу, обнаруживал, что не только я странствовал по ее страницам, но и сама рассказанная история прошла через меня и немного меня изменила.
«Земля людей» Антуана Сент-Экзюпери — в прекрасном белом матерчатом переплете, издательство Карла Рауха, — уже много лет сопровождала меня во время моих ранних бойскаутских походов и, пожалуй, можно сказать, в период моей принадлежности к законопослушной (!) немецкой молодежи. Этот автор, создатель всеми любимого «Маленького принца», еще целиком пребывал тогда в традициях воспевания идеалов мужественности, воинственности, абстрактного героизма («И лишь в борьбе обретает человек самого себя»), тех традиций, которые, несмотря на недавнее поражение во второй мировой войне и принудительное освобождение и очищение их от наслоений нацистской идеологии, все еще воспевались и превозносились многими воспитателями подрастающих немецких детей. Так что нет ничего удивительного в том, что я, как и многие другие десятилетние мальчишки моего поколения, по-прежнему с восторгом маршировал под зажигательный барабанный бой и хором распевал в общем угаре бравурные песенки завоевателей эпохи колониализма.
Именно этот автор, отрицающий, по сути, интеллект, поскольку начинает свою книгу «Земля людей» словами: «Земля одаривает нас большими возможностями, чем книги, познать самих себя, потому что оказывает нам сопротивление», и стал тем, кто в конце концов приобщил меня к литературе и помог мне отойти от того мировоззрения, которое сам же проповедовал в своих книгах.
Я начал свое книжное путешествие с такой мало сенсационной, скорее традиционной книги Вернера Бергенгруена, как «Великий тиран и суд», и с классического романа Томаса Манна «Волшебная гора». Но уже вскоре в руки мне попала книга, которая значительно ускорила темпы моего продвижения по пути «интеллектуального» развития — «Фальшивомонетчики» Андре Жида: «Никогда не живу более интенсивно, чем когда, выскользнув из собственной шкуры, пытаюсь стать кем-то другим!»
В этом юношеском возрасте это, пожалуй, была единственная возможность метаморфозы: стать сначала с помощью книжной фантазии кем-то другим, пожить какое-то время в другом образе, чтобы под конец возвратиться в ненавистную реальность, смутно и тайно наводящую на мысль, что все в этой действительности перевернуто с ног на голову, не зная, однако, как это изменить, чтобы продолжить со вновь обретенными знаниями свой путь дальше. Я читал все, что мог достать из книг Андре Жида: «Имморалист», «Подземелья Ватикана», «Пасторальная симфония». Так, одна дверь была мною распахнута.