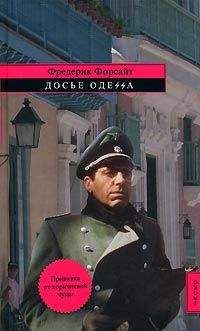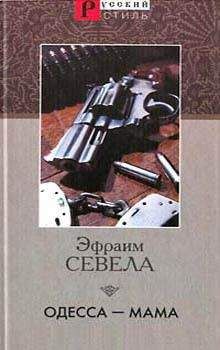Перикл Ставров - На взмахе крыла
А кончалось стихотворение удивительным, почти сверхъестественным предчувствием:
Не скорбя и не ликуя,
Ожидаю смерти милой,
Золотого аллилуйя
Над высокою могилой…
Тогда же Фиолетов (Шор) говорил, что хочет все бросить и бежать в сказочную страну — Индию…
Не хочется закончить статью на грустных воспоминаниях о поэтах, гибель которых мне известна. Вспоминается фигура пришедшего в наш город замечательного чудака — поэта Чичерина, Ликсей Миколаевича (как он сам произносил свое имя и отчество). Статный красивый человек, зиму и лето в легкой парусиновой блузе, в сандалиях на босу ногу. Чичерин пешком обходил всю Россию, изучая и собирая все народные говоры, чтобы проникнуть в самую глубь речевой стихии русского народного языка. У меня сейчас под рукой его сборник «Плафь» — фонетическое воспроизведение слова «Плавь» (сплав). Обычной орфографии Чичерин не признавал, так как служит она для передачи слов — мыслей, его же интересовала самая фонетика слова. Поэтому он придумал массу дополнительных знаков, долженствующих передавать звуковые оттенки речи. Понять сейчас его «заумные» произведения почти невозможно — но что за удовольствие было его самого слушать! Почти не понимая смысла, слушатель как бы сопереживал творческую эмоцию поэта и, казалось, проникал вместе с ним к самым истокам русского говора, русской речевой стихии. Голос у него был замечательный. Читал он и стихи Пушкина, Баратынского, Лермонтова, Мандельштама.
Помню, начинал он задумчиво-грустно, в медленном темпе:
Я изучил науку расставанья
В простоволосых жалобах ночных,
Бегут часы, и длится ожиданье,
В полночный час вигилий городских…
— и переходил потом в надрывающий душу напевный речитатив:
О, нашей жизни скудная основа!
Куда как беден радости язык,
Что было встарь, то повторится снова,
И сладок нам лишь узнаванья миг.
(О. Мандельштам)
Никогда не забуду лица молодого скульптора Г., слушающего Чичерина. По лицу этому катились слезы умиления и грусти. Поистине, мы «дети страшных лет России». Разве в мирное, беззаботное время, в «года глухие» будет взрослый человек плакать, слушая лирические стихи?
«Новое русское слово», Нью-Йорк, 23.01. 1949.
Скитания (новелла)
— Дайте мне десять франков, — говорит, не здороваясь, Юрий Олеша, низкий, приземистый, с проседью на висках.
Мы стоим у маленькой, в три ступеньки, лестницы уходящего ввысь кирпичного здания, крыша скрывается в лунном небе.
У меня немного больше десяти франков, и надо сообразить, как бы их не дать, чтобы не рассориться.
— Угнетен и приехал сюда, а они хотят сделать меня немцем… у меня звезда Альдебаран, и я написал «Зависть»…
Звезда Альдебаран освещает красные, разграфленные в белую полоску стены ровным бледным сиянием.
Мы входим внутрь огромного здания. Это больница — бесконечные коридоры, опираемся на спинку больничной койки, продолжая разговор, напряженно, не двигая губами, невесомые, как будто уже оба умерли. Временами говорю за него я.
— Наш друг, Эдя Багрицкий, умер, и умер достойно. И, задыхаясь, видел золотых рыб, и любимый щегол, которого он держал в клетке над постелью, реял над его головой… Моя слава тоже умрет, и я остаюсь в Париже…
— Но ведь Париж… это невозможно, это совершенно невозможно…
Было горестно и трудно дышать, и слезы не хотели пролиться.
Он еще ничего не знал, да и как было ему сказать, а я, задыхаясь, как Багрицкий, не оборачиваясь, видел — и слышал — шаги: «они» приближались. Впереди «он» в грязно-зеленом мундире, в фуражке, с взлетевшими, как крылья, полями, а за ними семенит угодливый господинчик и шествуют две нарядные дамы. Этих дам я еще не узнал в лицо, но все сейчас в корне изменится, наш разговор потеряет всякий интерес, и все, может быть, из-за десяти франков, которые все-таки придется дать — ведь во сне деньги ничего не стоят.
— Но ведь это госпиталь, — лепечет растерянно господинчик, хотя знает, что ничто не поможет, что все будет не так, как он хочет и как мы с Олешей хотим, а совсем по-иному.
— Какие ручки у меня, какие маленькие ножки, — говорит вдруг по Блоку Олеша, съеживаясь и окончательно расплываясь, и я различаю свою руку, лежащую на мраморной доске столика, и газета, еще не совсем отделенная от длинных коридоров, скользит с шуршанием на пол. А я уже знаю, что тоска и боль оттого, что стальной угол багажной тележки, на которой, скрючившись, я лежу, впился мне в ребра, что я не в госпитале, а беженец из Парижа и провожу ночь на вокзале в Тулузе, и не могу растянуться, вытянуть измученное усталостью тело.
И не хочу этого знать, и продолжаю видеть убегающий коридор и в конце его — уходящего писателя.
… — Закрывайте за собой дверь, господин, это, кажется, не так трудно…
Холодное дуновение, возня и вздохи, старчески закашлялась собака за чьим-то баулом. Нехорошо, очень нехорошо, царапает, будто по сердцу, шаркающая гвоздем по цементному полу подошва, а рассвет никогда не наступит, и невозможно улечься на этой проклятой тележке, никак не забудешься сном, и какие странные бывают сны, и если рассказывать мое свидание с Олешей, нужно больше художественных подробностей, иначе выйдет неправдоподобно, нереально.
А жандарм, который не хотел пропустить меня на вокзал, наверно, настоящий. Он проходит сейчас, лавируя между чемоданами, протянутыми ногами и столиками: верно, идет вздремнуть, утомившись; значит, уже три часа и через час — полтора наступит, пожалуй, рассвет.
А сейчас ни ночь, ни рассвет, а черт знает, что такое — будто светится темная сырость по углам и сереют пыль и наши испарения под потолком. Сияет синяя лампочка над журнальным киоском — от каких еще аэропланов тут надо спасаться? — выхватывает из сереющей массы газетные заголовки и какого-то дядю во фраке на большой, в пол-листа, карикатуре.
Сколько заголовков, и лозунгов, и девизов бегут ступеньками, расходятся уголочками, теряются в мутной темноте…
Для чего же над нашей нищетой и ничтожество над нашими распростертыми в прахе телами, над узлами и чемоданами, над хаосом столиков и тележек возвышается, господствуя, эта велеречивая, но уже надломленная иллюзия?
Вдруг они заговорят, эти девизы и лозунги, вещая из громкоговорителя, возглашавшего до сих пор, что мест в гостиницах нет и прибывающим предлагается ночевать на вокзале: