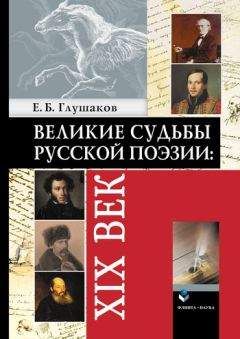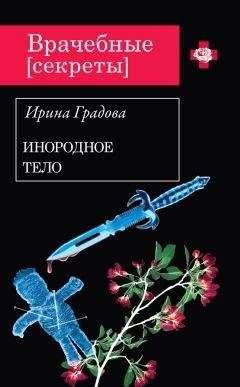Евгений Глушаков - Великие судьбы русской поэзии: Начало XX века
А разве ни за то же самое качество – народность, Блок почитал Алексея Максимовича Горького полезнейшим и необходимейшим писателем России? Вспомним, сколь демократичны были идеалы семьи Бекетовых, в которой воспитывался поэт. В этой связи, прежде всего, припоминается исполненная самых благородных и гуманных устремлений просветительская работа его бабушки, тёток, матери, знакомивших российскую публику с шедеврами мировой литературы.
Об умонастроении дедушки поэта – Андрея Николаевича Бекетова можно судить хотя бы по забавному эпизоду, приключившемуся с ним в Шахматово. Как-то, выйдя за ограду своей усадьбы, повстречал Андрей Николаевич мужика, тащившего из Бекетовского леса срубленное тайком дерево. Смутившийся барин не придумал ничего лучшего, как предложить вору: «Тебе тяжело, Трофим. Я помогу».
Пожалуй, и не было в эпоху Льва Николаевича Толстого иначе настроенной интеллигенции. Об отношении самого Блока к великому старцу можно судить по воспоминаниям Ахматовой. Однажды в разговоре с Александром Александровичем она упомянула, что поэт Бенедикт Лифшиц жалуется на то, что Блок уже одним своим существованием мешает ему писать стихи. Александр Александрович даже не улыбнулся, но вполне серьезно заметил: «Я понимаю это. Мне мешает писать Лев Толстой». Да и кого бы ни подавила творческая мощь одного из величайших русских писателей? В некоторых стихах поэта нетрудно разглядеть даже сюжетную перекличку с прозой Льва Николаевича:
НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ
Марии Павловне Ивановой
Под насыпью, во рву некошенном,
Лежит и смотрит, как живая,
В цветном платке, на косы брошенном,
Красивая и молодая.
Бывало, шла походкой чинною
На шум и свист за ближним лесом.
Всю обойдя платформу длинную,
Ждала, волнуясь, под навесом.
Три ярких глаза набегающих —
Нежней румянец, круче локон:
Быть может, кто из проезжающих
Посмотрит пристальней из окон…
Вагоны шли привычной линией,
Подрагивали и скрипели;
Молчали жёлтые и синие;
В зелёных плакали и пели.
Вставали сонные за стёклами
И обводили ровным взглядом
Платформу, сад с кустами блёклыми,
Её, жандарма с нею рядом…
Лишь раз гусар, рукой небрежною
Облокотясь на бархат алый,
Скользнул по ней улыбкой нежною…
Скользнул – и поезд в даль умчало.
Так мчалась юность бесполезная,
В пустых мечтах изнемогая…
Тоска дорожная, железная
Свистела, сердце разрывая…
Да что – давно уж сердце вынуто!
Так много отдано поклонов,
Так много жадных взоров кинуто
В пустынные глаза вагонов…
Не подходите к ней с вопросами,
Вам всё равно, а ей – довольно:
Любовью, грязью иль колёсами
Она раздавлена – всё больно.
Впрочем, тут не только отголоски романов Толстого «Воскресение» и «Анна Каренина», но и перекличка с Некрасовской «Тройкой». Так у обоих поэтов красивая девушка-простолюдинка, остановившись возле дороги, ищет благосклонного внимания проезжих господ и мечтает не то, чтобы о принце, но хотя бы о молодом офицере. И вот у Николая Алексеевича она, кажется, замечена:
На тебя, подбоченясь, красиво
Загляделся проезжий корнет.
Не обойдена вниманием девушка и у Александра Александровича.
Лишь раз гусар, рукой небрежною
Облокотясь на бархат алый,
Скользнул по ней улыбкой нежною…
А теперь сравним. В описании Блока – гусар, очевидно, на весьма значительной скорости (всё-таки поезд!) только и успел, что скользнуть улыбкой, взглядом. Некрасовский же корнет – на меньшей скорости (всё-таки лошади!) имел больше времени и даже «загляделся». Кстати, гусар у Александра Александровича, судя по нежной улыбке, тоже юн, а значит, имеет чин тоже не выше корнета. Впрочем, ни один, ни другой поэт не предрекают мечтательной девушке успеха, а как раз наоборот – непременную неотвратимую трагедию. И Николай Алексеевич выразил это наиболее прямо с привычной декларативностью певца обездоленных:
И схоронят в сырую могилу,
Как пройдёшь ты тяжёлый свой путь,
Бесполезно угасшую силу
И ничем не согретую грудь.
Вообще, Некрасов был и ценим, и любим Блоком, а трагическую противоречивость судьбы Николая Алексеевича, которую не выверить никакой морально-этической линейкой, он объяснял страстностью этого великого человека. Да и нравственный заряд собственной поэзии Александра Александровича едва ли может быть определён однозначно. В 1912 году некто из поклонников в своём письме к нему поблагодарил поэта за особенные изысканнейшие наслаждения, даруемые его стихами: дескать, «с ними мне не так грустно, т. е. грустнее ещё».
По ответу Блока чувствуется, что его чрезвычайно встревожило это письмо. Он даже попытался предостеречь своего почитателя от губительного, как ему представилось, действия своей поэзии: «Если в моих стихах для вас есть своё утешение от тоски – тоскою ещё более глубокой и тем самым более единственной, более аристократической, то лучше не питайтесь ими. Говорю вам по своему опыту – боюсь я всяких тонких, сладких, своих, любимых, медленно действующих ядов. Боюсь и, употребляя усилие, возвращаюсь постоянно к более простой, демократической пище».
Однако, хотя и тянуло его к здоровому реализму, судьба, как бы испытывая, вновь и вновь заманивала и увлекала Блока в мир условно-декоративной поэтики. В марте 1912 года ему делается предложение написать для композитора Глазунова сценарий балета. Поэт даёт согласие и вскоре оказывается во власти ещё одного бутафорского романтического сюжета. Причём в процессе работы балет переосмысливается в оперу, а затем и в стихотворную драму «Роза и крест». И опять Художественный театр Станиславского, из приличия пококетничав с небезызвестным автором пьесы вплоть до назначения к постановке и проведения нескольких репетиций, все-таки отвергает её.
Грустная, неразделённая любовь Блока к реалистическому театру и лично к его гениальному реформатору – Станиславскому. А вот у Мейерхольда по-прежнему в репертуаре – и «Незнакомка», и «Балаганчик». Александру Александровичу остаётся только сетовать на это обидное несоответствие: «Опять мне больно всё, что касается Мейерхольда. Мне неудержимо нравится «здоровый реализм» Станиславского и Музыкальной драмы. Всё, что получаю от театра, я получаю оттуда, а в Мейерхольдии – тужусь и вяну. Почему они-то меня любят? За прошлое и настоящее, боюсь, что не за будущее, не за то, чего хочу».
«Мейерхольдия» засасывала. Всё ненужное в большом искусстве, в жизни, может быть, потому и затягивалось в неё, что и сама она была неприкаянна и нища. Годами позднее она поглотит отвергнутую Есениным Зинаиду Николаевну Райх и даже сделает актрисой, примадонной. Ведь биомеханика, практикуемая на сцене Всеволодом Эмилевичем, отнюдь не предполагает в актёрах каких-либо специфических талантов, а биороботом способен быть каждый.