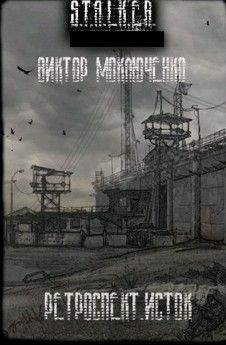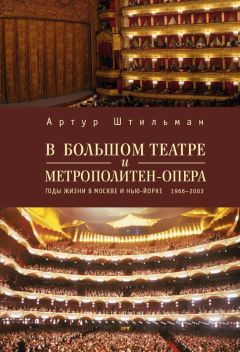Две жизни одна Россия - Данилофф Николас
* *
С той поры, как я увидел это кольцо Серова того цвета на пальце отца, меня обуревало желание узнать его историю. Отец, которого мы все называли Сержем, нс мог мне особенно помочь в этом. Он прибыл в Нью-Йорк осенью 1918 года из Бордо на борту французского парохода "Чикаго", полный решимости стать американцем и вычеркнуть прошлое из памяти. Когда я, набравшись смелости, спросил его однажды про кольцо, он не распространялся, сказав только, что это русское кольцо, принадлежавшее когда-то одному родственнику, который попал в переделку.
— А как оно сделано? — спросил я. — Почему оно снаружи железное, а внутри золотое?
Он, в раздражении, снял его с пальца и бросил мне.
— Вот, посмотри сам. Я знаю столько же, сколько и ты. Я взял лупу и стал внимательно его разглядывать. Кольцо выглядело очень простым. Шириной немножко больше четверти дюйма сверху, оно сужалось книзу. Невооруженному глазу серый металл казался гладким, но под увеличительным стеклом он выглядел пористым и неровным, и я заметил маленькую щербинку на внутренней золотой поверхности. А когда я начал вглядываться в какие-то таинственные буквы на плоском эллипсе на верхней его части, я испытал странное волнение. Эти буковки могли быть важным ключом к разгадке таинственной истории кольца или, по крайней мере, стать путеводной нитью.
— Ты знаешь русский. Что это означает? — спросил я отца, сидевшего у камина с газетой "Бостон Геральд". Я знал, что он терпеть не мог читать и говорить по-русски, но мое любопытство и желание узнать как можно больше об истории кольца взяло верх над опасением вызвать его раздражение.
— Одна буква похожа на русское "Д", это выглядит, как римская цифра "I", а каракули сверху я не разберу, — сказал он без всякого интереса. Я почувствовал, что мои вопросы ему надоедают, и перестал спрашивать.
Когда мне исполнился двадцать один год, отец подарил мне это кольцо, надеясь, что теперь я смогу удовлетворить свое любопытство. Я показывал его специалистам в Соединенных Штатах, но они не смогли ответить ничего определенного.
— Если оно такое старое и сделано из железа, почему оно не заржавело? — спросил один торговец ювелирным, изделиями, сомневаясь в его подлинности.
Кольцо было мне велико, и однажды я чуть не потеря, его. Очевидно, у моего предка были руки рабочего, а и интеллектуала. В конце концов, я решил поместить его на хранение в банк.
Нежелание отца говорить о России или о кольце был, понятно. Ведь кровавая революция в одночасье лишил, его положения и перечеркнула будущее. В августе 1911 года "ле женераль", чувствуя приближение революции помог своим сыновьям — двадцатилетнему Михаилу (щ прозвищу "Миш") и девятнадцатилетнему Сергею — выехать за границу. Миш отправился в Париж в качестве секретаря российской миссии по закупке авиационно техники. А Серж, недавно окончивший Тенишевское училище и Пажеский корпус, был послан вторым заместителем военного атташе при посольстве России в Риме. Через две недели после Октябрьской революции Серж и други офицеры поделили счета посольства между собой и разъехались в разные стороны. Осенью 1918 года Серж приехал в Нью-Йорк с 900 долларами в кармане и с помощи Фонда Карнеги отправился в Кембридж, штат Массачусетс, где поступил в Гарвардский колледж. Через несколько недель к нему присоединился Миш.
Хотя и Серж, и Миш окончили американский колледж в 1921 году, они никогда не чувствовали себя американцами. Вместо того чтобы идти на футбол, Серж прогуливался по территории Гарварда в жемчужного цвета гетрах с тросточкой. По окончании колледжа он устроился ра ботать инженером-механиком на текстильную фабрим принадлежавшую Сако-Лоуелл-Шопс, где и встретил мою будущую мать, Эллен Кросби Берк из Лоуелла, штата Массачусетс. Но ее семья из Новой Англии так и н| приняла его полностью. Он был слишком учтив, слишко изыскан, знал слишком много языков. Он говорил по-английски, по-французски, по-немецки, по-итальянски и по-русски. Он также был прекрасным наездником и любил автомобили, остроумных мужчин, красивых женщин и хорошо сшитые костюмы с четырьмя пуговицами на рукавах. Он считал американцев простодушными и не светскими.
Лучше всего отец чувствовал себя во Франции. Как большинство образованных русских его поколения, он свободно говорил по-французски и с гораздо лучшим произношением по сравнению с его славянизированным английским. У французов есть "стиль", как он выражался, а американцы об этом понятия не имеют. В течение многих лет Серж работал на автомобильной фирме "Паккард", и ему удалось так устроиться, что большую часть времени он жил и работал за границей, сначала в Париже, потом в Аргентине, а после второй мировой войны опять в Париже.
Серж не мог простить своей матери то, что она начиняла мою голову всем, что было связано с Россией, особенно ее добрые слова о Ленине. Серж старался устроить свою жизнь в Новом Свете, но даже если он не смог до конца освоиться с новым образом жизни, то Эйя и я, полагал он, должны были вырасти стопроцентными американцами. Мы должны были преуспеть там, где ему не удалось.
Теперь, оглядываясь назад, понимаю, что отец хотел, чтобы я, став американцем, в то же время мог наслаждаться тем, чем мог бы и он, не приди к власти Ленин. Он желал мне всего самого лучшего. Он хотел, чтобы я общался с богатыми, влиятельными людьми, был счастлив, когда я вступил в один из закрытых клубов Гарварда, затеял роман с молодой актрисой и проявил интерес, правда ненадолго, к моргановской Таранти Траст Компани. Он мечтал, чтобы я стал хорошим наездником и почувствовал вкус к езде на гоночных автомобилях. Бедный Серж! Имея Бабуту союзником в этом вечном конфликте между отцами и сыновьями во время отрочества последних, я одерживал над ним верх. Я был безразличен к лошадям и не желал садиться в седло. Лошадиные силы — будь то под седлом или в моторе — не интересовали меня вообще. Я носил мешковатые твидовые костюмы, проявлял интерес к французскому экзистенциализму и хотел изучать философию в Англии — стране, которую отец презирал за ее никудышную кухню.
Темы, связанные с Советским Союзом, вызывали наибольшие споры между нами, и в конце концов политика стала табу в наших разговорах. Серж считал Советский Союз угрозой для цивилизации; он разделял мнение Рейгана, который определил его как "империю зла". До конца дней своих Серж не мог понять, что для меня Советский Союз был реальностью. Казалось, он верил, что в один прекрасный день СССР перестанет существовать, и общество вернется к старым, добрым временам милосердного царизма. Но я знал, что если империи и суждены перемены, то они будут исходить от Москвы, т. е. произойдут изнутри.
Серж всегда отмечал две особенности нашей семьи и ее отношения к жизни. По "даниловской" линии мы унаследовали благоразумие и дисциплинированность — то, чего так недоставало русским, а по "фроловской" — эмоциональность.
— Со стороны матери, — говаривал он, — все было подчинено природным наклонностям.
Я бы сказал, моя семья со стороны его матери была более русской.
Влияние на меня Бабуты становилось все более сильным по мере того, как я рос, особенно после неожиданной смерти моей матери в 1950 году, когда мне было 15 лет, Теперь Бабуту ничто не связывало. Отец не мог с ней тягаться. Она командовала своими обоими сыновьями, также как и мной, до самой смерти в 1954 году.
Я помню то лето, когда она серьезно заболела. Это было в Париже. Она становилась все более раздражительно и наконец слегла с высоким давлением. К тому времени когда я вернулся в Гарвард к осеннему семестру, она впала в кому и вскоре умерла на руках у Сержа и его новой жены. Когда я получил телеграмму о ее кончине, я проплакал всю ночь, вызывая сострадание у своего соседа по комнате, спавшего на нижней койке. Всем своим существом я ощущал невосполнимость потери, также как после смерти матери. Бабута так любила меня до конца дней своих!