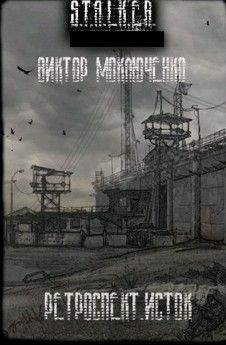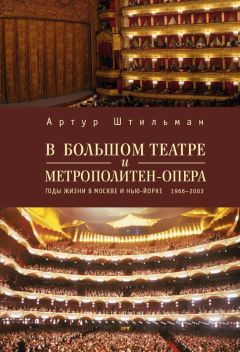Две жизни одна Россия - Данилофф Николас
Врач, казалось, была чем-то встревожена, ее седые волосы были в беспорядке. Не поздоровавшись, она обмотала манжет тонометра вокруг моей руки и начала работать резиновой грушей. Манжет медленно надувался, как бы ловя воздух торопливыми глотками, затем засопел, когда она открыла клапан.
— Сто пятьдесят на восемьдесят, — объявила она.
Я издал вздох облегчения. С юных лет я был предрасположен к гипертонии и опасался, что в результате всей этой встряски давление повысится сверх всякой нормы. Обычно по утрам я принимаю слабое лекарство для поддержания его на должном уровне. Доктора рекомендовали мне даже выбрать какую-нибудь спокойную профессию, скажем, библиотекаря, или архивариуса. Вместо этого я стал журналистом — поистине испытание для давления.
— Раздевайтесь догола, — приказала врач. — Я должна проверить, нет ли у Вас венерического заболевания.
Я чувствовал себя совершенно беззащитным, стоя голым перед этой несимпатичной дамой.
— Нагнитесь и раздвиньте ягодицы. — Она обратила внимание на большую геморроидальную шишку, которая образовалась у меня за последние часы после ареста.
Конвойные наблюдали эту сцену с полным безразличием, как будто они могли видеть американца в подобном положении каждый день. Для меня же эта постыдная процедура была просто невыносима. Я чувствовал непреодолимое желание поговорить по-человечески с этими людьми. Выпрямившись, я обратился к доктору.
— Простите, как Ваше имя?
— Какая разница? — отрезала она.
— Но Вы ведь человек, — ответил я.
Она повернулась ко мне спиной и стала заполнять медицинские формы.
— Могу я пройти в туалет? — обратился я к ней.
— У Вас еще будет такая возможность, — ответила она. — Ведите его в душ, — бросила она конвойным. И вышла, захлопнув дверь.
Один из моих провожатых сказал, что должен отобрать у меня некоторые вещи. Например, часы и брючный ремень. Я знал, конечно, что ремень можно использовать для самоубийства; эта мысль пугала. Неужели дела действительно так плохи?
Затем конвоиры осмотрели мои туфли. Это были мокасины из мягкой кожи на толстой каучуковой подошве. Младший лейтенант вынул из них шнурки, сантиметров по пятьдесят каждый.
— Разрешите разрезать Ваши шнурки пополам, — сказал он с изысканной вежливостью.
— Пожалуйста, — ответил я. Мысль о том, чтобы покончить с собой при помощи шнурков для ботинок, казалась смехотворной, но правила есть правила.
Старший конвоир повернул ключ в замке, открыв дверь из комнатушки. Мы вышли в большой холл со скамьями. Я опять попросился в туалет. Но они проигнорировали просьбу и повели меня в душевую. Там было несколько сеток, закрепленных наверху. Сантехника выглядела такой же старой, как и все здание. Цементный пол, постепенно спускавшийся к стоку, был холодный и мокрый. Я встал на темную деревянную решетку, скользкую и липкую от постоянной сырости, и открыл кран. Взяв кусок белого стирального мыла, я, наконец, погрузился в приятную расслабленность под струями теплой воды, отдыхая после долгого напряжения.
Когда я вытерся, дневальный в белом халате вручил мне комплект тюремного белья: просторные темно-синие хлопчатобумажные трусы и бледно-голубую полосатую майку-безрукавку. Я отказался от этой одежды и надел свою, утверждая себя таким образом, как прежнего Ника Данилова. Потом, однако, когда я узнал, как редко моются заключенные в советской тюрьме, я изменил свое решение. Лучше буду пачкать их одежду, а не свою. Дневальный показал мне, что нужно было взять для постели — тюфяк толщиной в два дюйма, простыню и тонкое одеяло.
Я опять попросил конвойного проводить меня в туалет. Дело в том, что двадцать лет тому назад я начал страдать болезнью мочевого пузыря. В течение нескольких лет я смертельно боялся летать на самолете, потому что почти всегда испытывал острую нужду во время взлета. Вспоминаю один кошмарный случай на борту военного вертолета, где не было туалета, и парашютные лямки врезались мне в пах. Когда мы приземлились, я долго мучился от боли. Людям из КГБ вовсе не надо вырывать мне ногти. Стоит только прибегнуть к одному из старейших приемов следователей: помешать заключенному в отправлении естественных потребностей. Я всегда знал, что это самое уязвимое мое место.
— Не беспокойтесь. Вы пойдете в туалет, — сказал мне один из охранников, когда мы шли обратно по длинному коридору по направлению к большому старомодному столу и стенным часам. Затем мы повернули налево и очутились в помещении длиной метров тридцать, которое заворачивало за угол и куда выходили двери камер. Мы прошли несколько шагов и остановились у металлической двери, окрашенной в грязный коричневый цвет, подобно воротам, через которые мы въехали в тюремный двор несколько часов назад. На двери была цифра 26.
— Имя? — спросил третий охранник, очевидно дежурный офицер, бросив взгляд на бумаги, лежавшие перед ним, посмотрев мне в лицо.
— Данилов, Николай Сергеевич, — ответил я по-русски. Охранник вставил ключ в замок и повернул его. Дверь открылась. Я не двинулся с места, но конвойные сомкнулись вокруг меня и буквально втолкнули внутрь камеры. Дверь тут же захлопнулась. Впервые после моего ареста я испытал приступ клаустрофобии. Было трудно дышать, колени подгибались, в горле стоял ком. Я сделал шаг назад к двери. Хотелось бить в нее кулаками и кричать во весь голос: "Откройте, сволочи, откройте! Выпустите меня!"
Внезапно я остановился. Я был не один. В камере находился еще человек. Он сидел на краю кровати и что-то писал на клочке бумаги. На нем был темно-синий бумажный спортивный костюм. Он поднял голову, и на его лице отразилось изумление.
— Добро пожаловать в гостиницу фирмы! Разрешите представиться. Меня зовут Станислав Зенин, для Вас Стас, — сказал он весело.
Когда я сказал, что я американец, он был поражен. Я признался, что в настоящий момент мне больше всего нужно облегчиться. Мне казалось, что мой мочевой пузырь кто-то сдавил.
Он показал на примитивный железный унитаз, поднимавшийся конусом от канализационной трубы, которая проходила у основания стены. Конус закрывала деревянная крышка с ручкой. Слева стояла металлическая корзинка с ржавыми краями, наполненная использованной туалетной бумагой. Справа у стены находился небольшой умывальник.
— Когда будете пользоваться туалетом, открывайте кран, чтобы не было запаха, — сказал Стас, показав на небольшую медную водопроводную трубу внутри конуса под крышкой. — По здешним правилам, туалетом нельзя пользоваться, когда сокамерник ест. — И добавил: — Располагайтесь, чувствуйте себя, как дома. Стойте, садитесь. Не обращайте на меня внимания.
Я последовал его совету, но это не помогло. Я чувствовал себя опять, как когда-то в самолете.
— Послушайте, Стас, — взмолился я, начиная впадать в панику. — Все дело в Вашем присутствии. Наверное, мне нужно чем-то отгородиться или Вам придется выйти.
Стас усмехнулся и согласился накрыться с головой тонким одеялом и отвернуться от меня. Это было зрелище! Но небезрезультатно.
В этот момент с лязгом открылось маленькое окошко в двери, которое заключенные называют кормушкой. В отверстии появилась суровая физиономия и рявкнула: "Какого черта вы там этим занимаетесь!? Вы что, не знаете, что не разрешается прятаться от охраны?!"
Стас сбросил одеяло на пол. Мне же теперь было все равно. Я преодолел свое первое препятствие.
Я опустился на койку и огляделся. Мы находились в подвальной камере, метров пяти в длину и трех в ширину. Сводчатый потолок был на высоте примерно трех метров, может быть немного больше. В дальней стене, напротив металлической двери было одно-единственное окно. Я подумал, что оно выходит во внутренний двор. Окно приходилось довольно высоко над моей головой, метрах в двух от пола, и рама, как фрамуга, откидывалась внутрь. Через полупрозрачные стекла были видны вечные атрибуты тюрьмы — семь вертикальных железных прутьев и два горизонтальных.
Мебели в камере почти не было. Три койки грязно-голубоватого цвета стояли вдоль глухих стен. Они до половины были покрашены в такой же цвет, а верхняя их часть и потолок были тусклого бежевого цвета. Ни фотографий красоток, ни лозунгов, ни даже портрета Ленина. Цементный пол, сильно истертый у порога, был коричневого "лефортовского" цвета, такого же, как дверь и ворота при въезде. Грязная сырая тряпка лежала у входа как половик. У каждой койки стоял маленький ночной столик, примерно тридцать на пятнадцать сантиметров. Над двумя койками, стоявшими вдоль длинных стен, были деревянные полки для скудных пожитков заключенных.