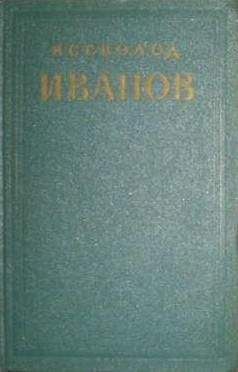Всеволод Иванов - Избранные произведения. Том 1
Далее: Вы злоупотребляете местными речениями, в этом сказывается неправильно понятое увлечение Ремизова и его школы, колдовством слова. Этот недостаток есть и у Никитина, он делает Вас непереводимым на языки Запада Европы. А переводить Вас — необходимо по целому ряду причин; одна из них: напряженный, как никогда! — интерес к русской литературе в Европе. Интерес этот — важен…
Каждый писатель есть звено, которое связует разноязычных и разнородных людей во единое человеческое, — это — не фантазия.
Вот сейчас я крикнул европейским литераторам клич: расскажите, что вы сделали, как жили за время войны и до сего дня? И отовсюду, с охотой, которой раньше не вызвать бы, мне шлют статьи о жизни Европы, Америки, и все требуют: расскажите, что делается у вас, в России?»
2«Получил Ваше интереснейшее письмо, — очень благодарен. Хочется немножко поспорить.
Русь „чудится“ Вам „провинцией“, писатели — „провинциалами“. Не велик я „патриот“, а все-таки, мне кажется, что в словах Ваших звучит усталость, слышен недостаток правильной самооценки. Разумеется, я не склонен отрицать оснований усталости и права на нее, но думаю, что русский „провинциализм“ можно, не искажая правды, заменить понятием своеобразия. Очень оригинальный народ мы, Русь, и очень требовательный сравнительно с нашими соседями на Западе. За истекшую четверть века мы заработали — вернее, получили — право на усталость более основательное, чем люди Европы, но устали — меньше. Это — факт. Культурный „провинциализм“ и угнетающее мещанство духа цветет и зреет здесь более быстро и пышно, чем у нас. Как одно из доказательств этого прилагаю газетную вырезку. Не думайте что „vade mecum“ это написано иронически, нет, это совершенно точное и серьезное изложение канонов „нового“ верования. Так же серьезно, как скандал, устроенный Воронову. „Обезьяний процесс“, устроенный Брайаном, характерен не только для СШ Америки, не только как одна из частностей борьбы „низколобых“ с „высоколобыми“, это в равной мере характерно и для современной Европы. „Сэр Голаад“, автор гнусной и безграмотной книги о России, о русской литературе, — тоже Брайан. Книга его направлена против духовного засилия России и имеет шумный успех. Такие выпады становятся все более часты, а мотив их один: „Оставьте нас в покое! Мы хотим жить спокойно“. Конечно, понимаешь это условие покоя, когда тебе говорят, что в Нью-Йорке за год убито грабителями 12 тысяч человек, и когда ежедневно читаешь сообщения о росте преступности в столицах Европы. Да, но ведь не этим вызываются такие факты, как „Пощечина мертвецу“ — Ан. Франсу, как ненависть к Р. Роллану, скандал, устроенный Полю Маргерит. Нет, культурного провинциализма здесь больше и характер его более ожесточенный и животный, чем у нас, со всем нашим пьянством, хулиганством, чего здесь также не меньше, чем у нас.
„Писатели мы провинциальные“? Это и верно, и неверно. Я тоже долго думал, что как мастера дела мы, конечно, хуже европейцев. Но теперь начинаю сомневаться в этом. Французы дошли до Пруста, который писал о пустяках фразами по 30 строк без точек, а теперь уже трудно отличить Дюамеля от Дю-Гара и Ж. Ромэна от Мак-Орлана. Все однотонно-одинаковы, все одинаково скучны. Новых тем — нет, крупных талантов — тоже нет. В Италии литература вообще отсутствует. Если вы почитаете англичан — Лоуренса, Кортрема, — Вас поразит их наивность и зависимость от Достоевского, Ницше, наконец — от Франса. Не чувствуются и немцы.
У нас я вижу целый ряд очень талантливых людей, хотя, пока еще, неумелых. Но у нас есть и удивительные мастера: Пришвин, С.-Ценский, Чапыгин. Нельзя требовать, чтоб каждое поколение давало Толстого или Пушкина. Но вот, например, у Вас есть все данные для того, чтобы стать крупнейшим писателем, и Вы, кажется, начинаете это понимать. Далеко должен пойти Леонов. Недостаточно ценится Федин… Затем: пишутся очень значительные книги, совершенно неожиданные, как, например, „Кюхля“ Тынянова, „Современники“ Форш. Расширяются темы, становясь разнообразнее.
Когда сообразишь, в каких условиях творится современная русская литература, как трудно всем вам живется, проникаешься чувством искреннего и глубокого почтения к вам. Я не закрываю глаза на ошибки, небрежности, торопливость и всякие иные грехи писательские, но, зная, как легко осудить человека, не занимаюсь этим делом. Иногда, впрочем, осуждаю, однако, „про себя“ и с великой горечью. Трудно все-таки не осудить Толстого и Щеголева.
Настроен я не оптимистически, это настроение, вообще, не свойственно мне. Но я думаю, что всем нам следует быть немножко стоиками, относиться к жизни более мужественно и фактам не покорствовать. А о людях судить не по дурному в них, а — по хорошему. Не тем человек значителен, что он дурен, а тем, что, вопреки всему, может и умеет быть хорошим.
Крепко жму Вашу руку, всего доброго.
Еще раз — спасибо за письмо.
А. Пешков
15. X. 26 Сорренто».
Хотелось бы описать впечатление от его писем. Но как это трудно! Помню ощущение смущенности. За его письмом всегда чувствуешь озабоченное и вопросительное его лицо, стремление тебе помочь. И чувствуешь, что это не только стремление тебе помочь, но и ты, помогая самому себе, поможешь тем самым ему, этому неистовому и ненасытному творцу. Читаешь письмо — и на сердце словно разгорается веселый и жаркий костер, при свете которого вокруг такая красота, которую почти нельзя описать: ее можно лишь почувствовать.
В творчестве М. Горького часто встречается тип вопрошателя. Почему так? Зачем таков мир? Как бы устроить его по-другому? Вопросы эти были не бесплодны и не легки, и вопрошатели часто расплачивались за некоторые чересчур смело поставленные вопросы жизнью. Встречались, разумеется, жеманные и нелепые вопрошатели, «чудаки», но и у них даже свирепый и ярый пламень вопросов был выше обычного, — по Горькому, «мещанского», уровня, где особенно никаких вопросов не существовало и люди жили преимущественно растительной жизнью.
Думается, я казался ему одним из тех вопрошателей-художников, которые были весьма понятны и близки ему. Он знал, что подобные вопрошатели-художники, раз уж взялись за дело, ни на что иное не согласны, как только на пророческое дело. А он, сам будучи пророком слова, вечно алчущим, для которого талантливое слово было острее ножа, — любил выискивать людей, подобных себе.
Он был тот самый высокоразвитый в духовном смысле человек, который может жить необыкновенно честно и необыкновенно широко. Он так и жил. Он мог и умел оказывать людям всяческую помощь, не веря ни в какие, вне человека существующие верховные силы, надеясь на самого себя и других убеждая надеяться только на себя. В этом смысле он был сам себе совершеннейший закон, — ослепительный и палящий закон честнейшего человека! Однако он никогда не осмеливался оказать о самом себе, что он совершенен, и всегда говорил, что он никого не учит, а лишь осмеливается кое-что посоветовать.