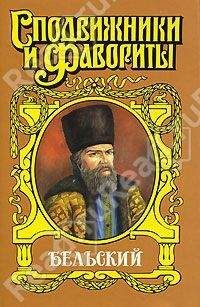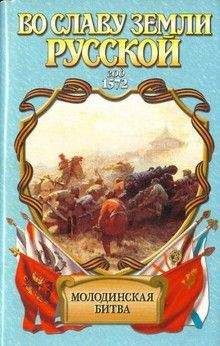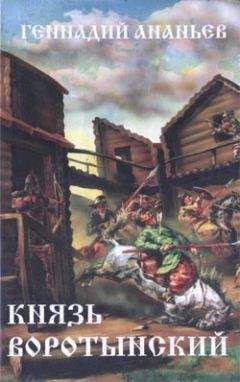Николай Любимов - Неувядаемый цвет. Книга воспоминаний. Том 1
Грифцов, говоря со мной об Алексее Толстом, вспомнил, что ему при НЭПе случилось ехать с Толстым по Волге на пароходе. Когда они оба в одном из приволжских городов сошли на берег, бабы, со всякой снедью толпившиеся у самого причала, расступились при виде Толстого и заокали:
– Ох ты, барин-то како-ой!
Барственность Толстого была иная, чем у Юрьева: громко о себе заявляющая, наянливая до беззастенчивости – и потому часто переходившая в свою противоположность. И все-таки мне думается, что и при виде Юрьева бабы расступились бы с тем же восклицанием.
Юрьев не желал – да если бы и захотел, все равно не смог бы – приспосабливаться к духу тогдашнего советского времени, менять привычки; он не хотел «опрощаться» даже внешне. Не изменял он и своим прежним дружеским привязанностям.
Он носил на пальце кольцо с великокняжеской короной – подарок великого князя Дмитрия Павловича, одного из убийц Распутина. На кольцо обратил внимание член бюро ленинградского обкома партии Позерн и с упреком в голосе спросил Юрия Михайловича, зачем он его носит.
Юрий Михайлович так ответил Позерну:
– А представьте, вы мне тоже что-нибудь подарите. А потом произойдет переворот. Что же, я должен буду прятать ваш подарок?
Юрьев любил устраивать то, что Виктор Яльмарович называл grand-galas. На юрьевские ужины, по тем полуголодным временам преизобильные и роскошные, приглашались директор Малого театра Владимиров, секретарь дирекции Малого театра Федоров, режиссер Малого театра Константин Павлович Хохлов, «первый любовник» в трухше Малого театра – кокетливый, заласканный, самовлюбленный «Севочка» Аксенов, популярные в те годы солисты Большого театра – тенор Жадан и баритон Норцов. Очень редко и позднее всех появлялся Качалов, снимавший в передней оленью доху.
В один из таких зашедших далеко за ночь званых вечеров мой молодой сон, который можно было бы пробить лишь с помощью тяжелой артиллерии, внезапно нарушил неслыханной чистоты и нежности звук: это за столом у Юрьева пел «Хотел бы в единое слово» Иван Семенович Козловский.
Как-то, уже в четвертом часу утра, ворвался пьяный Климов и заорал на всю квартиру, что хотя, мол, Юрий, подлец, его и не позвал, но он, Климов, всегда унюхает, где пьют, от него не скроешься, он запах водки за тридцать верст учует, так что, Юрий-свет-Михалыч, хочешь не хочешь, а принимай и потчуй незваного, но дорогого гостя!
После того как Юрьев перешел в театр Мейерхольда, Владимирова, Федотова, «Севочку» и Хохлова как ветром выдуло из его квартиры. Их сменили Мейерхольд и Зинаида Райх, несмотря на свою красоту вызывавшая у Маргариты Николаевны отвращение своей безграничной вульгарностью и, как сказал о ней Игорь Ильинский, особенным, «цыганским нахальством». Мейерхольд – доживший до седин «муж-мальчик, муж-слуга из жениных пажей», – стоя перед ней на коленях, благоговейно снимал с ее ног ботики, а уходя, надевал и застегивал их.
Изредка появлялись или даже останавливались у Юрьева его знакомые петербуржцы: известный химик, муж артистки Тиме, блестящий собеседник Николай Николаевич Качалов, актер Александринского театра, развязный, бесцеремонный Студенцов, автор либретто оперетты «Холопка» Евгений Геркен с голым, аристократически дегенеративным черепом и аристократически невнятным произношением, раскатывавшимся на «р» и не признававшим «л».
Адвокат Карабчевский присутствовал на спектакле, которым отмечалось 25-летие артистической деятельности Юрьева. Вспоминая этот его «юбилейный бенефис», состоявшийся в Александринском театре накануне февральской революции (шел «Маскарад» Лермонтова в постановке Мейерхольда и в декорациях Головина), он пишет («Что мои глаза видели», Берлин, 1921 год):
«Бенефициант был в ударе, и ему много аплодировали. Когда его чествовали при открытом занавесе, режиссер подал ему первым “подарок от государя императора”, второй – “от вдовствующей императрицы Марии Федоровны”».
Юрьев почти со всеми встречавшимися на его пути людьми был в милых отношениях. Любимец царского двора, он, не домогаясь благоволения новых вершителей судеб российских, расположил многих из них к себе – расположил, быть может, именно тем, что остался прежним Юрьевым. Его устойчивость – устойчивость отшлифованной самою природой гранитной глыбы – внушала доверие. Его колоритность тешила взгляд. Власти требовали от интеллигенции перекраски, но перекрасившиеся «страха и стомаха ради» в конце концов осточертели властям, и на Юрьеве их глаз отдыхал.
Благоприятелей у Юрьева было много, а вот близких друзей – во всяком случае, в Москве, – за исключением Маргариты Николаевны, ни одной души. Я не помню, чтобы кто-нибудь зашел к нему запросто, поболтать. Даже его троюродная сестра и бывшая соседка по имению Нина Николаевна Литовцева-Качалова хоть и часто бывала в доме Ермоловой, но приходила к «Маргарите», а не к «Юре», а «Юру», если оа заходил в комнату «Маргариты», с интересом расспрашивала, как идут репетиции у Мейерхольда.
Однажды мы с Маргаритой Николаевной разговорились о Юрьеве. Маргарита Николаевна сказала, что по натуре Юрий Михайлович отзывчив, но что его доброта разбилась о человеческую неблагодарность. В давно прошедшие времена зять Юрьева проиграл в карты крупную сумму казенных денег. Чтобы избавить его от позора, от разорения, от наказания по суду, Юрий Михайлович надавал векселей, залез в долги по уши. Выплачивал он их много лет, работая как вол, не гнушаясь халтурой. Семья, которую он выручил из беды, проявила к нему полное равнодушие. И Юрьев очерствел. Любовь и заботу он сосредоточил на Викторе Яльмаровиче. До конца и во всем откровенен Юрьев был с Маргаритой Николаевной. Его большая дружба с Мейерхольдом была дружбой творческой. Душу свою Юрьев перед Мейерхольдом не распахивал – как вследствие своей замкнутости, так и вследствие мейерхольдо-райховского эгоцентризма. Но когда Мейерхольду понадобилось дружеское участие Юрьева, Юрьев откликнулся.
Новый 35-й год Юрьев встречал с Маргаритой Николаевной и с Мейерхольдом. Во все продолжение встречи лицо Мейерхольда казалось застывшей маской отчаяния. Почувствовав, что Мейерхольду хочется остаться с Юрьевым наедине, Маргарита Николаевна скоро ушла к себе. Мейерхольд поведал Юрьеву свою душевную драму: он ревновал жену к Цареву, не стал встречать с ней Новый год, говорил Юрьеву, что ему незачем жить, что единственный для него исход – самоубийство. Юрьев возился с ним как с малым ребенком, утешал, ободрял, разубеждал. Гулял с ним по ночной Москве, снова привел к себе, пытался уложить спать, опять пошел с ним бродить и, только когда Мейерхольд кое-как успокоился, белым днем довел его до дому и распрощался.