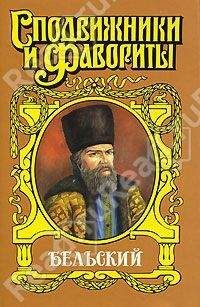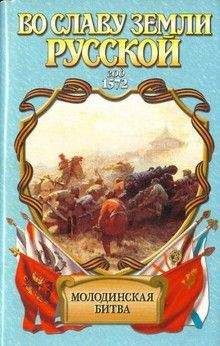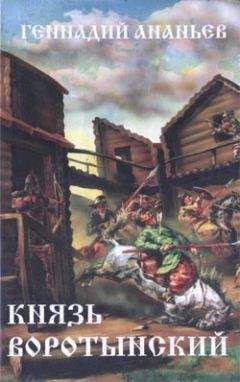Николай Любимов - Неувядаемый цвет. Книга воспоминаний. Том 1
– Что ж ты не посмотришь» Воскресение»? – укоряла она меня. – Там плох Нехлюдов-Ершов. Ему просто повезло. Качалов часто болеет, а у Ершова – внушительная фигура, уменье держать себя на сцене. Вот он и стал дублером Качалова – и выдвинулся. Нехлюдов, он никакой, но тут нужно войти и в его положение: его заставляют изобразить то, о чем читает Качалов, да еще как читает!.. Но вообще «Воскресение» – отличный спектакль. Сцены в суде, в тюрьме… Все так ярко, правда во… Слабы революционеры, но тут уж Толстой виноват. И Еланская хороша – вот что самое поразительное! «Воскресение» ты посмотри непременно.
В дореволюционном Художественном театре Маргарита Николаевна видела много. Ей нравились верностью художественной правде и такие спектакли, которые заметного следа в его истории не оставили: «Иван Мироныч» Чирикова, где она выделяла Лужского, исполнителя заглавной роли, и Литовцеву, игравшую его жену, и «Дети солнца» Горького, где она выделяла Качалова-Протасова и опять-таки Литовцеву в небольшой роли горничной. Зато «Юлия Цезаря» ругала на чем свет стоит:
– Постановка великолепная, а из актеров одного только Качалова можно было смотреть. Для Качалова Цезарь – это tour de force[72]. Ведь он же его играл совсем молодой, а Цезарь был у него бесконечно усталый, пресыщенный, опустошенный. Зато уж Вишневский – Марк Антоний, Константин Сергеевич – Брут (при упоминании Станиславского у Маргариты Николаевны звучала нотка почтительного сожаления) – это было такое позорище, просто позорище! Как они оба стихи читали! «Довольно стыдно мне пред гордою полячкой унижаться…»
Я не от одной Маргариты Николаевны слышал нелестные отзывы об игре Вишневского. Полагаю, однако, что его хулители не правы. Что ни говори, дореволюционная Россия полюбила же Дядю Ваню в исполнении Вишневского Испанист Кельин, поклонник Художественного театра, в особенности – Качалова, собиравший литературу о нем, открытки, на которых Качалов был снят в жизни и в разных ролях, восхищался тем, как в «Царе Федоре» Вишневский – Борис Годунов под величественностью осанки и внешней верноподданностью царю и царице давал почувствовать напористость, наглость, с какою он шел к намеченной цели. Моя мать говорила, что его Кулыгин из «Трех сестер» – это тип, и притом очень русский. Качалов полагал, что Вишневский останется непревзойденным Кулыгиным[73]. Мне запомнилась азиатская живописность поз Татарина-Вишневского из «На дне» и та мусульманская самоуглубленность, с какой он молился в четвертом действии. О каждом, кто играл Татарина после Вишневского, можно было сказать: «Федот, да не тот». И в «Страхе» мне запомнилась острохарактерная фигура Захарова-Вишневского. И в «Мертвых душах» его полицмейстер был плутягой и пройдохой, но по-гоголевски беззлобной и какой-то даже уютной. Словом, мне думается, что истина где-то посредине и что эту «срединную» истину, пожалуй, вернее всех выразил в монографии о Художественном театре Николай Ефимович Эфрос, считавший, что героические и трагические роли, вроде Марка Антония, пушкинского Бориса Годунова или Давида Лейзера из «Анатэмы» Леонида Андреева, были Вишневскому не по плечу и что театру не следовало их ему поручать: основное дело Вишневского – такие роли, как Татарин или Кулыгин.
Политические взгляды Маргариты Николаевны, в отличие от эстетических, не отличались твердостью. И тут она оказалась менее прозорливой, чем Ермолова, воспринявшая большевистскую революцию как антихристово царство жестокости и разрушения и, подобно «омскому каторжанину», сразу «на всем поставившая крест». Слабейшее место в воспоминаниях Маргариты Николаевны о матери – это ее рассуждение о революции как о возмездии за попранные права. А ведь писала она воспоминания после нескольких процессов, после коллективизации, в пору гонения на церковь, в ту пору, когда лик большевистской революции обозначился четко, когда стало яснее ясного, что, как сказал Бунин еще в 23-м году – а понял тотчас после революции, новые хозяева принесли с собой «смерть и ужас, грабеж, надругательства, убийства, голод и лютое рабство для всех поголовно, кроме самой подлой черни».
Пытаясь что-то оправдать в новом укладе, Маргарита Николаевна вступала в противоречие с жизнью и с самой собой. Она говорила, что революция была необходима хотя бы потому, что институт прислуги должен быть упразднен. Между тем сама до конца своих дней без домашней работницы почти не обходилась, и, как видим, этот институт не упразднен до сей поры, хотя после революции прошло уже более полувека. Какое там! Столь многочисленного «обслуживающего персонала», как у нынешних «руководителей партии и правительства» не было, пожалуй, ни у кого из «их величеств», не говоря уж о «высочествах».
В З6-м году Маргарита Николаевна пыталась заставить себя поверить, что «сталинская конституция» открывает новую, более гуманную эру. Жизнь поспешила вдребезги разбить ее самоутешительные иллюзии. И уж после ежовщины она ни на какие удочки, в том числе и на хрущевскую, на которую клюнули многие интеллигенты, не попадалась. Но и под самоутешением у нее жила грусть.
Как-то, в начальную пору нашего знакомства, я провожал Маргариту Николаевну в такси на Николаевский (Ленинградский) вокзал, и в машине она заговорила о том, как я душевно ей близок:
– В одном отношении ты мне еще ближе, чем мой Коля. Коля пытается перебросить мостки от себя к новой жизни, что-то оправдать, что-то понять и принять. Может быть, он по-своему и прав. Так легче. Ты хоть и моложе его, но, как и я, как и Татьяна Львовна, решительно говоришь новой жизни: «Нет!»
Мне думается, что в Маргарите Николаевне было все-таки больше «ермоловского», чем «шубинского». Я уже говорил о пассивности ее натуры. Маргарита Николаевна была застенчива. Интересно с ней было вдвоем или когда у нее собирались закадычные ее друзья, а в более или менее многолюдном обществе она тушевалась, тускнела. Она любила вспоминать, как ее отец, когда его представляли московскому генерал-губернатору великому князю Сергею Александровичу, небрежно бросившему: «А, да, знаю, вы – муж Ермоловой…» – мгновенно отпарировал: «Нет, ваше высочество, Ермолова – моя жена».
Маргарита Николаевна никогда бы так не нашлась.
И юмор ее расцветал в интимном кругу. А юмор у нее был опять-таки чисто ермоловский, брезговавший сальностями, но любивший сочное вольнословие. Для Маргариты Николаевны, как в былое время для бабушки, Николай Васильевич собирал коллекции невинно-раблезианских шуток, загадок и анекдотов.
Меня еще не было в Москве, когда скончалась Ермолова, когда пришла весть из-за границы о том, что погиб под поездом там же, где в 16-м году погиб Верхарн, Семен Владимирович Лурье. Кончина Николая Васильевича, умершего 42-х лет от дистрофии в дни ленинградской блокады, не сломила Маргариту Николаевну, но согнула. Смерть друзей она принимала спокойно.