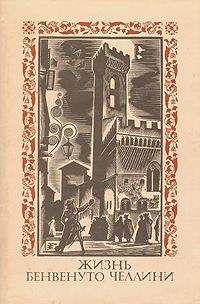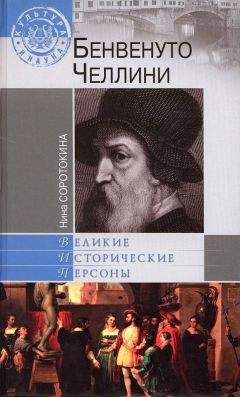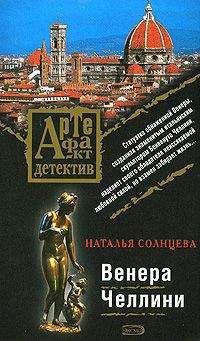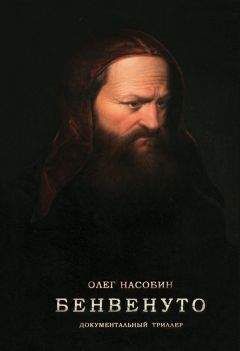Бенвенуто Челлини - Жизнь Бенвенуто Челлини
XXXIV
Если бы я не говорил, в некоторых из этих моих приключений, что сознаю, что поступил дурно, то те другие, где я сознаю, что поступил хорошо, не сошли бы за истинные; поэтому я сознаю, что сделал ошибку, желая отомстить столь странным образом Паголо Миччери. Хотя, если бы я знал, что это такой слабый человек, мне бы никогда не пришла на ум такая постыдная месть, какую я учинил; потому что мне мало было того, что я заставил его взять в жены такую подлую потаскушку, но еще потом, желая закончить остаток моей мести, я за ней посылал и лепил ее; каждый день я ей давал по тридцать сольдо; и так как я заставлял ее оставаться голой, то она требовала, во-первых, чтобы я платил ей ее деньги вперед; во-вторых, Она требовала очень хороший завтрак; в-третьих, я из мести имел с нею общение, попрекая ее и мужа теми разными рогами, которые я ему учинял; в-четвертых, я держал ее в очень неудобном положении по многу и многу часов; и быть в этом неудобном положении ей очень надоедало, настолько же, насколько мне это нравилось, потому что она была прекрасно сложена и приносила мне превеликую честь. И так как ей казалось, что я ей не оказываю того внимания, какое я оказывал раньше, до того, как она вышла замуж, и это было ей весьма в тягость, то она начинала ворчать; и на этот свой французский лад грозилась на словах, упоминая своего мужа, каковой уехал жить к приору капуанскому,[345] брату Пьеро Строцци. И, как я сказал, она упоминала этого своего мужа; а когда я слышал, что о нем говорят, тотчас же на меня находил неописуемый гнев; однако я его сносил, с неохотой, как только мог, памятуя, что для моего искусства мне не найти ничего более подходящего, чем она; и говорил про себя: «Я учиняю здесь две разных мести; первую — тем, что она замужем; это не мнимые рога, как его, когда она была для меня потаскухой; поэтому, если я учиняю эту столь отменную месть по отношению к нему, а также и по отношению к ней такую странность, держа ее здесь в таком неудобном положении, которое, кроме удовольствия, приносит мне такую честь и такую пользу, — то чего же мне еще желать?» Пока я подводил этот мой счет, эта дрянь распространялась в этих оскорбительных словах, говоря все время о своем муже, и такое делала и говорила, что выводила меня из границ рассудка; и, отдавшись в добычу гневу, я схватил ее за волосы и таскал ее по комнате, колотя ее ногами и кулаками, пока не устал. И туда никто не мог войти ей на помощь. После того как я ее порядком потрепал, она стала клясться, что не желает никогда больше ко мне возвращаться; поэтому первый раз мне показалось, что я очень плохо сделал, потому что мне казалось, что я теряю удивительный случай доставить себе честь. Притом же я видел, что она вся истерзана, посинела и распухла, думая, что если она и вернется, то необходимо будет лечить ее недели две, раньше чем я мог бы ею пользоваться.
XXXV
Возвращаясь к ней: я послал одну мою служанку, чтобы она помогла ей одеться, каковая служанка была старая женщина, которую звали Руберта, душевнейшая; и, придя к этой негоднице, она принесла ей снова выпить и поесть; затем намазала ей немного поджаренным солонинным жиром эти больные ушибы, которые я ей насадил, а прочий жир, который оставался, они вместе съели. Одевшись, она затем ушла, богохульствуя и проклиная всех итальянцев и короля, который их держит; так она шла, плача и бормоча до самого дома. Правда, что первый этот раз мне показалось, что я очень плохо сделал, и моя Руберта меня попрекала и все мне говорила: «Очень вы жестоки, что так свирепо колотите такую красивую девочку». Когда я хотел извиниться перед этой моей Рубертой, рассказывая ей про негодяйства, которые чинила и она, и мать, когда жила у меня, на это Руберта меня бранила, говоря, что это пустяки, потому что таков французский обычай, и что она знает наверное, что во Франции нет мужа, у которого не было бы рожек. На эти слова я рассмеялся и потом сказал Руберте, чтобы она сходила посмотреть, как Катерина себя чувствует, потому что мне было бы приятно, если бы я мог кончить эту мою работу, пользуясь ею. Моя Руберта меня попрекала, говоря мне, что я не умею себя вести; потому что едва настанет день, как она сама сюда придет; тогда как, если вы пошлете спросить о ней или навестить, она начнет ломаться и не пожелает идти. Когда настал следующий день, эта сказанная Катерина пришла к моей двери и с великой яростью стучалась в сказанную дверь, так что, будучи внизу, я побежал посмотреть, сумасшедший ли это, или кто из домашних. Когда я отворил дверь, эта скотина, смеясь, бросилась мне на шею, обнимала меня и целовала, и спросила меня, сержусь ли я еще на нее. Я сказал, что нет. Она сказала: «Так дайте мне хорошенько закусить». Я дал ей хорошенько закусить и поел с нею в знак мира. Затем принялся ее лепить, и тем временем у нас случились плотские услады, а затем, в тот же самый час, что и в прошедший день, она до того меня разбередила, что мне пришлось надавать ей таких же самых колотушек, и так мы продолжали несколько дней, проделывая каждый день все то же самое, как из-под чекана; немного разнилось от большего к меньшему. Тем временем я, который учинил себе превеликую честь и кончил свою фигуру, приготовился отлить ее из бронзы; в каковой я имел кое-какие трудности, так что было бы прекрасно для надобностей искусства рассказать об этом; но так как я бы слишком задержался, я это обойду. Довольно того, что моя фигура вышла отлично, и это было такое прекрасное литье, какого никогда не делалось.[346]
XXXVI
Пока эта работа подвигалась вперед, я уделял по нескольку часов в день и работал над солонкой, а иногда над Юпитером. Так как солонку работало гораздо больше людей, нежели у меня было к тому удобство, чтобы работать над Юпитером, то уже к этому времени я ее кончил во всем. Король вернулся в Париж,[347] и я к нему отправился, неся ему сказанную оконченную солонку; каковая, как я сказал выше,[348] была овальной формы и величиной была приблизительно в две трети локтя, вся из золота, сработанная при помощи чекана. И, как я сказал, когда я говорил о модели, я изобразил море и землю, обоих сидящими, и они перемежались ногами, как иные морские заливы заходят внутрь земли, а земля внутрь сказанного моря; так точно и я придал им это изящество. Морю я поместил в руку трезубец в правую; а в левую поместил ладью, тонко сработанную, в каковую клалась соль. Под этой сказанной фигурой были ее четыре морских коня, которые по грудь и передние лапы были конские; вся часть от середины кзади была рыбья; эти рыбьи хвосты приятным образом переплетались вместе; над каковой группой сидело с горделивейшей осанкой сказанное море; вокруг него были многого рода рыбы и другие морские животные. Вода была изображена со своими волнами; затем была отлично помуравлена собственным своим цветом. Для земли я изобразил прекраснейшую женщину, с рогом ее изобилия в руке, совсем нагую, точь-в-точь как и мужчина; в другой ее, левой руке я сделал храмик ионического строя, тончайше сработанный; и в нем я приспособил перец. Пониже этой женщины я сделал самых красивых животных, каких производит земля; и ее земные скалы я частью помуравил, а частью оставил золотыми. Затем я поставил эту сказанную работу и насадил на подножие из черного дерева; оно было некоей подходящей толщины, и в нем была небольшая выкружка, в каковой я разместил четыре золотых фигуры, сделанных больше чем в полурельеф; эти изображали ночь, день, сумерки и зарю. Еще там были четыре других фигуры такой же величины, сделанные для четырех главных ветров, с такой тщательностью сработанные и частью помуравленные, как только можно вообразить. Когда эту работу я поставил перед глазами короля, он издал возглас изумления и не мог насытиться, рассматривая ее; затем сказал мне, чтобы я ее отнес к себе домой и что он мне скажет в свое время, что я должен с нею сделать. Я отнес ее домой, и тотчас же пригласил нескольких моих дорогих друзей, и с ними с превеликим весельем пообедал, поставив солонку посреди стола; и мы были первые, кто ее употребил. Затем я продолжал кончать серебряного Юпитера и большую вазу, уже сказанную,[349] всю отделанную многими приятнейшими украшениями и множеством фигур.