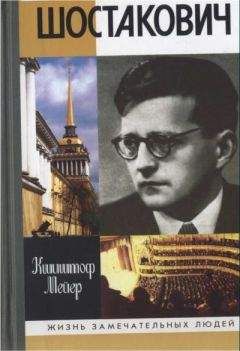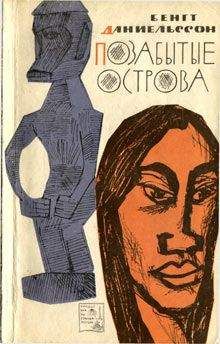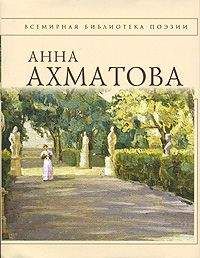Бенгт Даниельссон - Гоген в Полинезии
малое, созданное мною, что действительно мое. И кто ведает, быть может, это малое, став
полезным для других, когда-нибудь вырастет во что-то большое?»
К сожалению, со всеми этими судами и хлопотами Гогену некогда было работать, и он
задолжал Воллару столько картин, что боялся, как бы тот не прекратил ежемесячные
выплаты. Да еще он был должен немецкой торговой фирме тысяча четыреста франков, то
есть почти столько же, сколько требовалось на поездку в Папеэте за справедливостью.
Порывшись в своих сундуках и ящиках, Гоген отыскал девять старых картин; среди них
преобладали вещи 1899 года, но была и одна бретонская. Часть этих полотен он хранил
потому, что дорожил ими, часть - потому, что считал их неудавшимися. Теперь он
отправил все девять Воллару, присовокупив одну из четырех картин, которые написал
недавно268. Остальные три Гоген послал открытому Даниелем де Монфредом богатому
коллекционеру, прося за них полторы тысячи франков.
Одна из картин 1903 года изображает коня Гогена под манговым деревом перед окном
мастерской, две - виды деревни с кладбищем на заднем плане, и последняя представляет
собой сильно уменьшенный вариант его духовного завещания 1897 года: «Откуда мы? Кто
мы? Куда мы идем?»
В это время, когда ему особенно нужны были силы, снова резко ухудшилось здоровье.
Гоген опять послал за Вернье, но тот мог только сменить ему перевязку и посоветовать
быть осторожнее с лауданом. Совет разумный, но как его выполнишь, если нога болит все
сильнее? И когда лаудан перестал помогать, Гоген даже попросил Варни вернуть ему
морфий и шприц, которые нарочно отдал лавочнику на хранение. Памятуя уговор, Варни
сперва упирался, но Гоген не успокоился, пока не настоял на своем269. Морфий принес
облегчение, и к следующему пароходу, который выходил 28 апреля, он смог закончить
свое письмо начальнику жандармерии. На тринадцати исписанных убористым почерком
страницах Гоген красноречиво защищался и яростно нападал.
Судя по этому важному, прежде не публиковавшемуся документу, поворотным
пунктом явилось прибытие Клавери. До сих пор, по словам Гогена: «Немощный, занятый
своим творчеством, не зная ни слова по-маркизски, я жил уединенной жизнью здесь на
островах, вдалеке от дороги, редко встречаясь с людьми». Потом приехал Клавери, и... «с
самого начала я подвергаюсь непрерывным преследованиям. Стоит мне дать отпор, как
меня осыпают бранью, причем в общественных местах, на глазах у европейцев и
туземцев. Моя жизнь становится невыносимой, идет борьба наподобие той, которую
описал Бальзак в «Крестьянах».
Рассказав о стычке с Клавери после суда над двадцатью девятью жителями Ханаиапы,
Гоген продолжает: «Вот почему необходимо известить вас, мсье, что хотя ваши жандармы
исполняют много административных обязанностей, они находятся здесь прежде всего для
того, чтобы бороться с преступностью и нарушениями закона, и нельзя обращаться с
поселенцами как с подчиненными солдатами. Надеюсь, чувство справедливости не
позволит вам стать на сторону ваших жандармов. Если со мной и впредь будут так
обращаться, я попрошу вас заставить этого наглого мерзавца драться со мной на дуэли.
Счастье туземцев, что в моем лице они обрели защитника, потому что до сих пор
поселенцы, люди небогатые, кормящиеся торговлей, боялись пойти против жандармов и
помалкивали. В итоге жандармы, никем не контролируемые (вы далеко, и вряд ли вас
правильно информируют), здесь полные хозяева... Меня осудили только за то, что я
защищал бедных беззащитных людей. Животные хоть охраняются специальным
обществом».
Дальше следовал длинный и яркий обзор всех оскорблений, которые пришлось
выслушать Гогену. Он заключал: «Однако хочу довести до вашего сведения, что я прибуду
на Таити, чтобы защитить себя, и что моему адвокату будет что порассказать. .. Пусть
даже меня отправят в тюрьму, что я считаю позором (это нечто неслыханное в нашем
роду), я всегда буду высоко держать голову, гордясь репутацией, которую заслужил. И я
никому, каким бы высоким ни был его чин не позволю говорить что-либо унижающее мою
честь»270.
Судя по задиристому тону и ясному слогу, можно подумать, что у Гогена было вдоволь
и здоровья и душевных сил. На самом деле это письмо стоило ему больших усилий: по
сохранившимся черновикам и заметкам видно, что он его много раз переписывал. Гоген
настолько ослаб, что, едва ушел пароход, снова заперся в своем доме, чтобы как следует
отдохнуть. Целую неделю он никого не приглашал, но рано утром 2 мая послал Тиоку за
пастором Вернье. Поднявшись по крутым ступенькам в примолкший «Веселый дом»,
Вернье застал хозяина, в кровати. Слабым голосом Гоген спросил, что сейчас - день или
ночь, и пожаловался, что у него «все болит». Сказал, что два раза терял сознание. Потом
вдруг принялся толковать об искусстве и литературе, остановился на романе Флобера
«Саламбо». Как это бывало и раньше, беседа явно ему помогла, боли скоро прекратились.
Гоген не знал, где его слуги, да его это и не очень занимало. Посидев еще, Вернье пошел в
школу, чтобы продолжать урок271.
В одиннадцать часов благодарный друг Гогена, Тиока, который показал себя куда
более преданным и надежным, чем платные слуги, решил опять навестить его. Как
полагалось по местному обычаю, он издали дал знать о себе криком «Коке! Коке!», однако
не дождался приглашения войти. Тиока нерешительно поднялся по лестнице и увидел, что
Гоген лежит на краю кровати, свесив вниз одну ногу. Он подхватил его и побранил за
неосмотрительную попытку встать. Ответа не было. Вдруг Тиоку осенило, что его друг,
возможно, умер. Чтобы удостовериться, он прибег к испытанному маркизскому способу:
сильно укусил Гогена за голову. Тот оставался нем и недвижим. Тогда Тиока
пронзительным голосом затянул траурную песнь. На тумбочке возле кровати стоял пустой
флакон из-под лаудана. Может быть, Гоген принял чрезмерно большую дозу. Намеренно -
говорили одни жители поселка; нечаянно - думали другие. А может быть, флакон давно
был пуст. Нам остается только гадать272. Если в этом вообще есть смысл.
Наконец явились два нерадивых лодыря - слуги Гогена. Они не замедлили оповестить