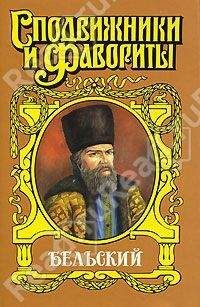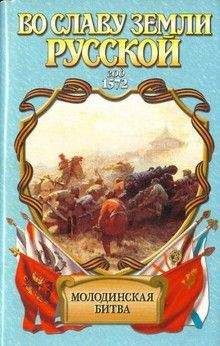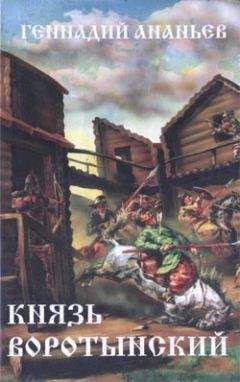Николай Любимов - Неувядаемый цвет. Книга воспоминаний. Том 1
«Нас в то время посещало много народу, и по вечерам у нас образовался “клуб” завсегдатаев. Приходил Бунин с женой… у Бунина было такое лицо, какое должно быть именно у писателя: тонкие черты худого умного лица, большие светлые глаза, высокая, худощавая фигура, красивые тонкие руки.
Вера Николаевна – милая женщина, с очень бледным лицом, почти матовым, – напоминала не то Мадонну, не то старинный портрет… Носила шляпку с длинным синим вуалем, который складками обрамлял лицо, и еще больше от этого напоминала известную картину в галереях, особенно в каком-то повороте…
Бунин болел революцией и большевизмом. В. Н. была его сиделкой, его рабой; любовь ее была беспредельна. Иван Алексеевич ходил к нам, чтобы не сидеть дома, чтобы видеть людей и получать слухи о положении вещей. Он жил этими слухами, и настроение его менялось смотря по тому, что говорили. Если люди приходили и говорили о поражении большевиков, о таинственной эскадре, появившейся на горизонте, И. А. оживлялся… большие потускневшие глаза его прояснялись, он живо и образно рассказывал нам за чайным столом из прошлого своей литературной деятельности, делился впечатлениями пережитого, говорил возбужденно, точно человек, долго молчавший и вдруг получивший возможность говорить… рассказ его был ярок, выражения образны, сравнения попадали прямо в точку, и в голове слушателей возникал точный и исчерпывающий образ того, что хотел сказать Бунин. О каком-то редакторе, которого он недолюбливал, он с растяжкой повествовал: “Вхожу я в редакцию… смотрю – сидит… вытянутая физиономия… знаете, такой лошадиный череп валяется под кустами”… Бунин был едок, иногда желчен… спорил нервно и зло и не всех располагал к себе, и сам относился к людям по выбору – одних допускал до себя, других не замечал, третьих ненавидел и презирал. Чувства его были ярки и мучительны; он часто впадал в крайность, до мелочности, особенно когда было задето “святое” его души. Выл до болезненности мнителен… мы знали, что из брезгливости он сам не пил молока, не ел молочного и не давал В. Н. Они питались хлебом, картофелем и овощами, и В. H., вероятно, не выдержала бы этого режима, если бы долго продержались большевики. Бунин редко выпивал у нас стакан пустого чая и не дотрагивался до монпансье, которое подавали за неимением сахара.
Ко мне И. А. относился с большой симпатией, которая существовала между нами как молчаливое взаимное соглашение. Я жалела его и любила за его талант и внутренне была готова прощать ему все его недостатки… они не раздражали меня, и он, вероятно, это чувствовал[69]».
«Наша странная жизнь, оторванная от действительности, шла точно в сказке… только страшные события, разыгрывавшиеся вокруг, вырывали нас из этой страшной сказки и наполняли душу ужасом, от которого мы еще неудержимее стремились друг к другу. В городе шли аресты… в квартире, где снимали комнаты Кам., произошло убийство: зарезали хозяйку квартиры, богатую вдову, имевшую бриллианты; целью убийства был грабеж.
По улицам постоянно встречались толпы арестованных “буржуев”, которых вели куда-то.
О “ЧЕКА” говорили с содроганием. На Екатерининской площади, рядом с домом, где жил К., было главное отделение чрезвычайки… и по ночам был слышен непрерывный шум мотора и дрожание заведенного автомобиля… его заводили нарочно, чтобы заглушить расстрелы в подвальном этаже учреждения.
Красный призрак террора носился над Одессой, и чело его становилось все грознее и грознее, в то время как на Елизаветинской улице благоухали доцветающие поздние акации».
«Одесса» июль 19 года»[70].
Лето было замечательное, солнце вставало и закатывалось на безоблачном небе весь июль, время было переведено на два с половиной часа, и вчера были длинные, светлые и медленно таяли в золоте и багрянце заката Жары не было совсем, трава не желтела. По утрам и по вечерам дул свежий ветерок с моря, в комнатах было прохладно и не душно, на ночь открывали окна, делалось совсем свежо и пахло морем и цветами.
Море днем было тихое, бледно-голубое; низкие, бледные берега уходили вдаль, как на старых картинах. Природа кругом была безмятежна и лучезарна.
Люди – изнемогали.
В городе был террор и голод. За громадные деньги покупали на рынке хлеб, редиску, сметану, картофель, доставали молоко: мясо было, но купить его было почти невозможно.
В ресторанах, пансионах и меблированных комнатах кормили неизменно кабачками, фаршированными пшеном, кулешом из картофеля, свеклы и кусочков сала.
Террор был в разгаре, и настроение у всех понижалось с каждым днем; спасала только мысль, которая была у всех нас в глубине души: “не может быть…”. Никто не верил в прочность власти, все жили и ждали.
Еще теснее сплотилась наша компания. Иван Алексеевич с женой каждый вечер приходили к нам. Она – покорная и ясная, он – смятенный, в тоске, и всегда с вопросом в глазах: “Что же?., когда же?..” Худое лицо его, большие светлые глаза с каждым днем делались тревожнее, глубже, острее. Он не мог работать, не мог оставаться дома.
Во второй половине июля – без всяких видимых оснований – стали поговаривать о десанте, особенно одно время: кто бы ни пришел – знаете, говорят: через два дня или завтра, послезавтра – десант…
– Кто… что., почему?
– Ну да я вам говорю – десант.
– Да какой десант?
– Ну какой – с моря, конечно!..
Наконец, мне это надоело, и я сказала: “если завтра еще кто-нибудь придет и мне “десантнет”, спущу прямо с лестницы”, а у самой душа истерзалась: говорят – веришь, начинаешь надеяться, – если нас возьмут, значит можно будет соединиться с Семеном Владимировичем. Начинаешь представлять себе до тех пор, пока кто-нибудь не принесет какой-нибудь вести о чудовищном расстреле, опять упадет все в душе, как спущенные паруса, и не можешь ни во что верить, и охватят безнадежность и отчаяние.
Помимо личной нашей судьбы, которая все повесила в воздухе неопределенно и непрочно, я страдала от атмосферы террора в городе. Я чувствовала физически ужас, который испытывали люди, и не видя – видела кровь, и не слыша – слышала вопли, стоны, выстрелы расстрелов…
Электричество не горело, я не спала по ночам, после 11 часов воцарялась жуткая тишина, только время от времени был слышен спешный ход и гудок автомобиля… ближе… ближе., “где-то остановится…” Часто останавливался напротив. Это был большой дом с хорошими квартирами, населенный местными инженерами, юристами, деловыми людьми.
Раздавался ужасный стук в железные ворота, слышно было, как гремели ключи, хлопала тяжелая дверь… Потом наступала тишина, часа через два опять хлопала дверь, автомобиль уезжал. Наутро узнавали, кто арестован. Так – каждую ночь, иногда – без автомобиля – раздавались шаги, стук в ворота, голоса, потом опять тишина и опять шаги: увели кого-нибудь.