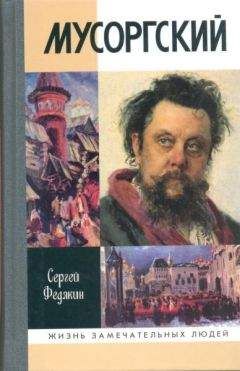Скрябин - Федякин Сергей Романович
«Когда Вы написали мне об учреждения кружка, то я подумал, что он будет состоять из группы людей, искренне преданных моему искусству, которое для них является средством радостных и высоких переживаний. Такое общество и для меня было бы источником большой радости. Если же из-за этого предприятия могут произойти какие бы то ни было неприятности, могущие нарушить мой душевный покой (в котором я очень нуждаюсь), то я буду вынужден отказаться от всякого участия в кружке; да и зачем он тогда? Вы понимаете, что не одна практическая цель (пропаганда) меня здесь интересует, но еще и, главным образом, сторона духовная. Кружок из нескольких лиц, проникнутых духом моего творчества, может больше содействовать осуществлению моего замысла, чем целая толпа».
Еще больше огорчило общение с отцом. Николаю Александровичу пришлось исповедоваться в письме:
«Дорогой папа!
Получив после такого долгого промежутка твое письмо, я очень обрадовался, но, по обыкновению, радость продолжалась недолго. Все то же сухое и холодное ко мне отношение. Я думаю, что, когда ты мне писал, советуя ехать в Россию одному, ты не сомневался в том, что я этому совету не последую? Мои взгляды на этот вопрос тебе известны, так как я достаточно подробно тебе их высказывал полтора года тому назад у нас в Лозанне. С тех пор я мог только укрепиться в своем мнении. Не знаю, с какими моими доброжелателями ты разговаривал; вероятно, ты ошибся и это были завистники; у нас их достаточно. К чести России должен сказать, что она приняла меня, как подобало, а также, несмотря на всю мою щепетильность, я ни разу не имел повода быть недовольным отношением к Татиане Феодоровне. Что же касается неуважения чужого мнения, то твои упреки совершенно несправедливы, в этом отношении я считаю себя безукоризненным. Очень жалею, если наше присутствие в Москве может кого-нибудь оскорбить; против этого я ничего не могу, так же как не могу выселить из России многих лиц, оскорбляющих меня своим присутствием. В Москву мы не только поедем, но даже поселимся там с будущего года, а может быть, и останемся теперь же. Меня призывает туда моя артистическая деятельность. Все, что ты пишешь, дорогой папа, дает мне понять, что ты хотел бы избежать для себя и для своей семьи свидания с нами ввиду нашего невольно нелегального положения вместо того, чтобы помочь нам выпутаться из него и уважить настоящее чувство, в котором ты мог убедиться и которое в наш век очень редко. Мало того, ты не только не уважаешь высокую личность Татианы Феодоровны, ты оскорбляешь ее вдвойне, намекая на нее как на моего врага, дающего мне дурные советы, и не передавая ей поклоны от мамы и сестры. Ты восстанавливаешь свою семью против меня, вместо того чтобы научить ее почитать в моем лице русское искусство. Ты все время говоришь мне о семье, но всеми своими действиями даешь мне понять, что семьи у меня нет. Раскрыть свои объятия Татиане Феодоровне и твоим внукам, когда мы обвенчаемся, — это захотят сделать многие — чужие, а от своего отца и от своей семьи я мог бы ожидать да и (наивный) ожидал немного большего по отношению к человеку, который более пяти лет самоотверженно делит мою жизнь и все мои невзгоды, которых было, как ты знаешь, немало. Если я не ошибся и цель твоего письма была дать мне все это понять, то я спешу успокоить тебя и сказать, что, как до сего дня я считал своим долгом заехать к Вам с моей женой, теперь это же самое я почел бы неделикатностью.
До свиданья, дорогой папа. Любящий тебя сын Саша.
Р. S. Ты волнуешься, когда пишешь мне, а я заболеваю, когда читаю твои письма. А мне нужно сидеть по 14 часов в сутки над срочной работой!»
Это смятенное послание отправлено в середине декабря. В январе Александра Николаевича снова ждет Москва. «Прометей» за границей так и не был закончен несмотря на то, что работал Скрябин с редким накалом и напряжением. Немногочисленные признания в письмах, вроде «работаю, как безумный», лишь отчасти отражали его состояние. Крайняя новизна «Прометея» требовала для своего воплощения усилий, времени, житейского спокойствия, которого пока не хватало.
* * *
Что-то произошло в художественном сознании Скрябина, какую-то черту он переступил, за которой проявились еще пока неясные очертания совсем другого мира, достаточно удаленные от мира земного и в то же время напрямую связанные с ним. «Будем, как Солнце!» — возглас Константина Бальмонта звучал в унисон с «Поэмой экстаза». Не «будем», а «есть», — уточнил ученый Дмитрий Чижевский, — земная жизнь чувствует ритмы солнечной активности, планета живет под непосредственными «касаниями» мирового пространства.
«Русские космисты» — Чижевский, Вернадский, Циолковский — почувствовали ту пуповину, которая связывала Землю с породившей ее Вселенной, и перевели эту интуицию на язык науки. Скрябин переводил свои предчувствия на язык звуков. Вне России, без глубинного соприкосновения с «русским космизмом» мир «Прометея» вряд ли мог воплотиться в нужные, единственно возможные звуки и формы.
3 января 1910 года Скрябин возвращается в Москву. Уже навсегда. Музыкальный мир следит за ним, живет в преддверии новых сенсаций. «Биржевые ведомости», подводя итоги прошлого года, Скрябина выделяют особенно: «Впервые мощный, цельный, оригинальный, хотя и болезненный талант Скрябина стал во весь рост перед большой публикой…» Впереди концерт, «Поэма экстаза», которую на этот раз должен исполнить сам Кусевицкий. Для Скрябина это, недавно столь дорогое сердцу произведение — теперь только «ступенька» к «Прометею», этой «Поэме огня», окончание которой Скрябин предвкушает.
Но и «Прометей» — не последнее его устремление. За каждым своим сочинением композитор все яснее провидит будущую «Мистерию» — главное дело жизни. Русские космисты были убеждены, что человек должен вмешаться в жизнь космоса, так как сам — часть космической силы. Так думал и Скрябин.
В 1910 году композитор живет целиком во власти своей «Поэмы огня». Мемуары современников оставили нам несколько «моментальных снимков» с его «прометеевского» облика.
Воспоминания Ольги Ивановны Монигетти. Они ироничны, ибо во второй жене Александра Николаевича она видит тайного врага всей семьи Монигетти и… творчества любимого «Скрябочки». Возможно, в душе благородной Ольги Ивановны шевелится и тайная ревность к Татьяне Федоровне. По крайней мере, все, о чем она пишет, окрашено ее неприязнью к спутнице композитора.
Кусевицкий приводит сестер Монигетти к Скрябиным. Ольга Ивановна окидывает взглядом обстановку:
«Комнаты были чудесные, но в них царил хаотический беспорядок: на всех столах и стульях были разбросаны разные вещи. На полу игрушки подвертывались под ноги. Двое ребят производили адский шум визгом, беготней и лазаньем по стульям».
Скрябин, застигнутый врасплох, стесняется беспорядка, детского шума, малоприветливого лица своей жены. Татьяна Федоровна ведет себя на грани допустимых приличий, мужа то и дело одергивает, не давая нормально разговаривать с гостями: «Саша, не трогай это… Саша, зачем ты сюда садишься? Саша, принеси то! подай это!»
Второй «снимок» Ольги Ивановны дополняет первый: Скрябин, совершенно беспомощный, появляется у них на квартире. На него давит возложенное поручение, и великий «преобразователь мира» превращается в растерянного мальчика. С изумлением крутит в руках маленькую обувку: по ее «образу и подобию» он должен купить детские туфельки.
Монигетти дружно смеются над незадачливым видом их дорогого «Скрябочки». Елизавета Алексеевна сразу берет дело в свои руки: «Саша, поручите это мне. Это будет гораздо лучше исполнено, а вы сидите у нас. Куда полезнее, чем метаться по магазинам».
И вот — горничная отправляется на поиски нужной обувки, а радостный, сбросивший с себя обузу ответственности Александр Николаевич музицирует в компании дорогих друзей. Он вспоминает свои ранние импровизации, смотрит поверх рояля в далекое прошлое… Когда горничная вручает автору «Поэмы экстаза» купленные ею туфельки, он — только что вернувшийся из мира звуков — вертит их в руках с недоумением: что это? зачем это? И тут же вторит горничной, не сразу вникая в смысл: дети «растут»’.