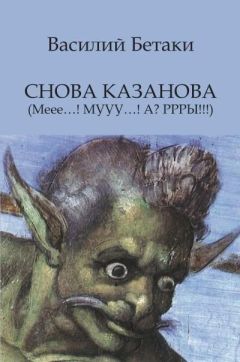Василий Бетаки - Снова Казанова (Меее…! МУУУ…! А? РРРЫ!!!)
Иногда приезжала из Москвы сестра отца тётя Лида, молодая, высокая и очень-очень красивая с пронзительным чёрным взглядом. Она обычно приезжала с мужем, фоторепортёром Вл. Шаховским, который у нас за столом постоянно доказывал, что развитие фотографии скоро покончит с живописью. (фото 7.Лида в 1918 году)
Изредка бывала у нас подруга папиной первой жены, оперная певица Любовь Александровна Дельмас-Андреева, невысокая, моложавая, очень круглая и рыжая хохотушка, которая когда-то, как я много позднее узнал, «вдохновила Блока на цикл стихов «Кармен»…
Потом, уже лет в семнадцать, я случайно где-то встретил её. С полчаса мы поболтали в Летнем саду, и она, явно заметив мои несытые взгляды, пригласила заходить. Около года я был в неё влюблён. Она была всегда весёлая, юношески порывистая, и это так не шло к её комплекции и возрасту! Но она и в старости, по её словам, «любила всё только солнечное». Ей тогда было уже не знамо сколько лет, но это ни ей ни мне не мешало… Она не раз что-то говорила о «жено-материнской привязанности» и… ничего больше не запомнилось, о чём ещё она щебетала. Я как-то не замечал этих «влюбчивых» (от слова Люба») речей потому что вовсе не ими была она для меня привлекательна… Интересно, что морщины были у неё только на лице. Сильно располневшая, как почти все певицы, с годами переставшие петь, она была немыслимо гладкая, казалось, что холёная ароматная кожа на всём её сочном теле предельно натянута …
Но вернёмся в детство.
Самым большим из этих «гостевых» праздников был приезд из Перми «дяди тёзки», так я звал поэта-футуриста и авиатора Василия Каменского. Его рассказы о первых самолётах, специально для меня «адаптированные», были ужасно увлекательны, но больше всего я ждал, когда после ужина все перейдут в огромную гостиную Пантелеевых, и «дядя тёзка» начнёт читать стихи, очень ритмично, даже напевно, и вдруг заревёт уже совсем непонятные слова: «Сарынь на кичку! Кистень за пояс!.. Ядрёный лапоть/ пошел шататься по берегам!»
И хотя потом Каменский рассказывал мне, кто такой Стенька Разин, и объяснял все непонятные слова, воображение упрямо представляло эту «кичку» — курицей, на которую падает какая-то тряпка под названием «сарынь». А в лапте, конечно же, лежит пушечное ядро, вроде тех, что я видел около старинных пушек в морском музее, иначе отчего ему, лаптю, быть «ядрёным»?
Много внимания мне уделял заходивший к нам очень часто бывший берлинский кинорежиссер Герберт Рапопорт, папин приятель, антифашист, немецкий еврей, бежавший в 1934 году из Германии и говоривший по-русски всё ещё плохо. Ему нравилось со мной разговаривать, ведь по-немецки я тогда говорил хоть и на детском уровне, но вполне прилично. А когда он с родителями, поблескивая толстыми очками, разговаривал по-французски, я не понимал ни слова. Родители имели обыкновение пользоваться французским, когда говорили о чём-то, чего мне знать не полагалось, ну и ещё в разговорах с Рапопортом, потому что немецкий мама знала плохо, а папа и вовсе не знал.
Несколько позже Раппопорт вместе с питерским режиссёром А. Минкиным сняли ставший за несколько дней знаменитым антифашистский фильм «Профессор Мамлок». Мой отец был художником этого фильма.
(Съёмочная группа фильма «Профессор Мамлок» Второй слева в первом ряду художник П.В.Бетаки, третий слева во втором ряду режиссёр Герберт Рапопорт)
«Профессор Мамлок» вышел на экраны в 38 году, получил какую-то очень большую премию и спустя полгода после этого был снят с экранов и запрещён. Наступил короткий период дружбы Сталина с Гитлером. Премию, однако, не отобрали, и это уже было хорошо.
4. ВОЙНА.(1941–1943)
Блокада. Крыса подана! «Березарк» в детдоме. Белбаш, Как я воевал. Москва. Ростов. Что случилось в оккупированном городе.
Эту главу мне почему-то хочется оставить в самом конспективном виде.
Было вот как: отец пошел в военкомат, хотел записаться добровольцем в армию, даже показал какое-то офицерское кавалерийское удостоверение, но его по возрасту (53 года) и ещё по каким-то медицинским причинам отправили домой, приказав готовиться к эвакуации. А на удостоверение даже и не глянули.
Дома Пантелеев долго изумлялся, как это отца, показавшего в военкомате бумаги белого корнета, тут же не арестовали! Но отец резонно заметил, что бывших белых в Красной Армии пруд пруди, и что во время сталинского разгрома армии ликвидировали множество красных командиров и комиссаров, а бывших белых, как ни странно, мало тронули…
…Первый эшелон с эвакуированными ленфильмовцами ушел в Алма-Ату в конце августа, и мы, назначенные во второй эшелон, отвезли багаж на московскую товарную 4 сентября. А шестого сентября замкнулась блокада, и нам предложили забрать багаж обратно.
Через два-три дня была первая бомбёжка города. После нее сразу же сгорели Бадаевские склады, где «погибли продукты питания в количестве 80 % годового запаса», как сообщалось в какой-то газете. Наступал голод. В городе скопилось более четырёх миллионов человек (вместо, кажется, двух с половиной довоенных).
Обо всём этом подробно говорилось в разных книгах тысячи раз. Я просто постараюсь рассказать про то, что увидел я, одиннадцатилетний мальчишка. Хотя слово увидел, пожалуй, не подходит — ничего я не видел.
Блокада для меня слилась как бы в один день: так монотонно, что даже не было страшно.
22 января 1942 года отец умер в больнице, куда его отвезла на моих детских саночках Таня, пантелеевская домработница. В конце марта к нам пришёл какой-то майор, прилетевший на один день из Вологды в Ленинград, и принёс нам от маминого племянника, военного врача Володи Витовецкого, кило колбасы. Потом оказалось, что Витовецкий просил его прихватить нас с мамой в Вологду на своём самолётике. Он не сделал этого, видимо, потому, что увидел: мама уже не встаёт с постели.
Мне кажется, что если бы он всё-таки взял нас, то она, может быть, и выжила бы. Ну, а если даже и нет? Хуже бы не было…
После того как отца не стало, я начал охотиться на крыс, которых в доме было множество. Я пилил и колол на дровишки нашу старинную дубовую мебель, засовывал в железную «буржуйку» эти мебельные обломки вместе с книгами и жарил крыс.
Сначала я пробовал стрелять крыс из лука, но ничего, кроме короткого писка, не происходило: стрелы мои были, видимо, тупые.