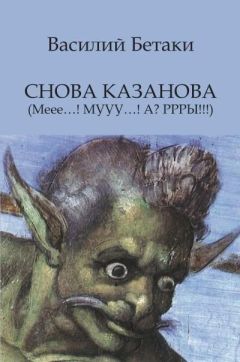Василий Бетаки - Снова Казанова (Меее…! МУУУ…! А? РРРЫ!!!)
Сначала я пробовал стрелять крыс из лука, но ничего, кроме короткого писка, не происходило: стрелы мои были, видимо, тупые.
Тогда я взял молоток на длинной ручке и уселся на корточках у норы. Это было куда эффективнее, я стал добывать по пять-шесть крыс в день. Я никак не мог заставить маму есть это мясо. А я, хотя и был всё равно голодный, но не бесповоротно голодал, как моя упрямая мама и, главное, не слабел. Крысы были жирные и большие. Чем они питались, я старался не думать… «Выжить — вот всё, что нам надо» — повторял я маме. Она кивала, но когда я обдирал и жарил крыс, отворачивалась…
На человека в те месяцы, всю первую зиму блокады, выдавали 125 граммов хлеба в день, и более ничего. Не знаю, кто как жил, я не выходил из дома, кроме как вниз, в булочную, где, простояв с полчаса, получал на нас двоих 250 граммов хлеба.
Несколько раз я видел, как на улице люди падали и больше не вставали… Да ещё холода… хотя сорокаградусных февральских морозов уже не было, но температура четыре-пять градусов ниже нуля протянулась, кажется, до середины апреля…
Еще я ходил с ведром на Фонтанку с Моховой, через дворы. Там, в проруби, набирал полведра и минут через сорок медленно возвращался с водой. Хорошо, что я был не по возрасту силён, а этаж был второй!
Я ел крыс, а маме отдавал всю эту нашу жалкую пайку хлеба, мокрого и кислого. Не помогло, конечно.
6 апреля она, прохрипев часа полтора, больше не двигалась. Я сел в кресло и так, не шевельнувшись, сидел. К вечеру меня в этом неподвижном состоянии обнаружил приехавший из Кронштадта старик Пантелеев. Его сын, адмирал Юрий Пантелеев, командующий морской обороной Ленинграда и начальник штаба Балтфлота, с декабря держал отца при себе в Кронштадте. Но моряки иногда привозили старика на пару часов домой, в квартиру, где кроме нас, оставалась Таня. Это случалось примерно раз в две недели.
Александр Петрович поговорил с провожавшими его моряками, они вызвали по телефону матросов-санитаров, и те увезли труп.
Меня он увёл в свою комнату, Таня дала мне чаю с сухарями, а он начал куда-то названивать: то в Кронштадт, то в какие-то учреждения. В общем, он договорился с каким-то детдомом, чтобы меня туда взяли. И Таня повезла меня на тех же моих саночках через полгорода куда-то на Галерную. Вечером из-за цинги меня оттуда «переместили» в какую-то ближнюю к детдому больницу. Поедая крыс, я порой пил свежую кровь, и цинга была у меня куда менее страшная, чем у многих других детей, голодавших в блокаду. Так что меня уже через пару недель отвели обратно в детдом.
Ребятам в детдоме было от восьми до четырнадцати лет. Процветало то, что много позднее, в конце века, на армейском жаргоне назвали «дедовщиной».
По ночам я часто думал об этом жутком обычае и благословлял отца, научившего меня крепко и безоглядно драться. И не просто драться: он научил меня «восточным приёмам драки», которым уж не знаю откуда сам научился (много лет спустя я понял, что это была какая-то дилетантская смесь каратэ с чем-то китайским). Я не выглядел мощным парнем, наоборот. Узкие плечи и отсутствие видимых мускулов располагали старших к беззаботной агрессивности, и вдруг… Это «вдруг» было моим главным стратегическим преимуществом.
Я почти точно исполнял отцовский урок: «в ответ на любое нападение давать сдачи вдвойне, а то и втройне, чтоб боялись, но самому первым — никогда!». Только во мне в «справедливых драках» просыпалась такая злоба и ярость, что я превышал необходимую оборону не то что в три, а уж не знаю во сколько раз. Я белел и ничего и никого, кроме противника не видел. Жестокости тут не было предела, и помноженная на уменье, она…
Так что воспитатели не раз и вполне справедливо запирали меня в директорском кабинете через полчаса после очередного моего «наказания сволочей». Раньше, чем через полчаса они почему-то сами боялись ко мне подойти, хотя я успокаивался мгновенно, сразу после того, как мой «враг» оказывался на спине. Когда он вставал, я не держал на него больше никакого зла. Какой-то инстинкт к счастью все-таки всегда удерживал меня на краю, и никто из побитых всерьёз не пострадал. Я получил справедливую кличку «бешеный». Но донкихотствовать продолжал. Я ведь дрался не только за себя, но за всех маленьких и обиженных.
Много лет спустя, уже вполне взрослым, я прочёл где-то об итальянских «берсальеро», литовских «березарках» и о «буй турах» русского раннего средневековья. Это всё были люди, входившие в бою в дикую ярость, которая непонятно как увеличивала их силы и обостряла реакции. Из них создавали целые отряды. Я тогда подумал, что, наверно, во мне что-то такое есть, что все это не легенда.
То, что я испытывал не было слепой яростью: разум работал нормально, только все чувства обострялись, всё происходило в ускоренном режиме. А как только проходила нужда, как только заканчивалась мобилизовавшая все силы экстремальная ситуация, я тут же и успокаивался. Потом — усталость и только.
Меня наказывали, оставляли без обеда, потом показали какому-то пожилому врачу. Тот долго меня выстукивал и осматривал, стукал по коленке, а она только едва подёргивалась. Доктор пожал плечами и сказал, что я «абсолютно здоров и нормален, просто хулиган». Но слушал он меня терпеливо. Я же долго доказывал и доктору, и директору, что хулиган ведь не я, одиннадцатилетний, а скорее тот четырнадцатилетний подросток, который требовал от меня и от других младших пайку хлеба. Я пытался объяснить, что мне просто удалось «обезопасить» этого вымогателя… Тем не менее, «в характеристике в журнале» меня назвали «невыдержанным и безответственным хулиганом».
Лет через тридцать — ударила молнией песня Галича "Левый марш":
По детдомам, как по штрафбатам —
Что ни сделаем — всё вина!
Под запрятанным шла штандартом
Необъявленная война!
Наши малые войны были
Рукопашными зла и чести,
В том проклятом военном быте,
О котором не скажешь в песне.
И не странно ли, братья серые,
Что по-волчьи мы налету
Рвали горло за милосердие,
Били морду за доброту!..
Но и за дело тоже. Нет, Александр Аркадьевич. Чаще — за дело:
Как-то ночью мальчишки попытались засунуть мне куски газеты между пальцами ног и поджечь, (это у них, ребят из рабочих районов города, именовалось «велосипедик устроить»). Было их двое — один мой ровесник, а один из старшей группы. Я проснулся от чирканья спички, и в результате старшего увезли в бессознательном состоянии в больницу, правда всего до завтра, а второй смылся. Но впечатление это произвело: появились и скорая, и санитары, и даже милиционер, который, по-моему, сам не знал, зачем его позвали…