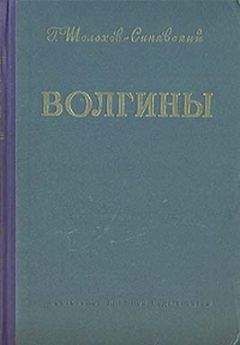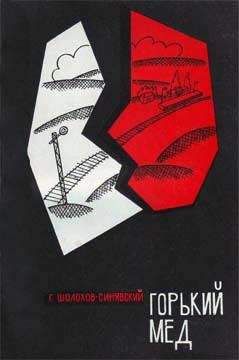Георгий Шолохов-Синявский - Отец
Так стали мы сваливать на бедного Федура все плохое, чего не хотели признать за собой.
Где-то на краю света полыхала кровопролитная и бессмысленная война с японцами. Стены нашей мазанки покрылись грубо раскрашенными лубочными картинами сражений и портретами генералов Линевича, Стесселя, Куропаткина, Скрыдлова, Кондратенко. Вот мы стоим с Тимой перед картинами и портретами и нараспев, выговариваем имена полководцев, переделывая их на свой лад: «Лилевич, Сесель, Купатник, Крыдало…»
Японцы на картинах изображены преувеличенно желтолицыми и косоглазыми, с оскаленными лошадиными зубами, а наши солдаты — румяными и лихими богатырями. Они храбро нанизывают японцев на длинные штыки, рубят им головы, палят из винтовок и орудий. Впереди шагает попик и благословляет героев высоко поднятым крестом. А в тыл «желтолицым макакам» уже скачет казачья конница; японцам, видно, скоро конец, и, может быть, поэтому внизу, в самом углу картины, в огромную медную трубу во всю мочь дует трубач. Багровые щеки его надуты, как мячи, глаза грозно выпучены. Мне почему-то особенно запомнился этот трубач. Казалось, я слышу рев его трубы, бесконечный, неутихающий, то жалобный, то тупо победный…
Отец заинтересованно остро воспринимал войну. И это понятно — ему в то время было сорок лет, и только вследствие быстрого разгрома русских армий и скорого конца войны запасные второй очереди избежали мобилизации. Но я помню тревогу матери, хотя и не придавал ей значения, не понимал ее. У отца были в этой войне свои друзья-герои и свои недруги. В народе ходили разные слухи, народ оценивал войну по-своему, он знал многое. И отец вслед за другим называл Куропаткина генералом-от-«плохантерии», Линевича — старой бабой, Стесселя — предателем, а о Кондратенко и адмирале Макарове отзывался восторженно.
Но война вскоре отступила на задний план: ее заслонило большое семейное горе.
Особенно запомнился казавшийся мне потом зловещим морозный глухой вечер под рождество. Тогда этот праздник был своего рода отдушиной в мир маленьких радостей, чем-то скрашивающих нужду.
Ни отец, ни мать не были религиозными и нас, детей, не особенно приневоливали к вере и молитве. Отец никогда не говел, не ходил в обычные праздники в церковь, благо до ближайшей церкви в Синявке было десять верст. О попах и монахах, церковных обрядах — венчаниях в церкви, крестинах и погребениях отзывался насмешливо и пренебрежительно. Несмотря на это, рождество и пасху родители соблюдали всегда пунктуально и не столько религиозную их сторону, сколько чисто внешнюю, обрядную.
В те времена семья наша в обычные дни кормилась чем попало; мясо, сдобные пироги, колбаса считались роскошью, поэтому долгие недели постов отбывались без всяких сожалений. «Для бедного человека всегда пост», — говорили тогда. Но наступало рождество, и мать старалась изо всех сил, «в нитку тянулась», чтобы на праздничном столе были и свинина, как у всех добрых людей, и домашняя колбаса, и сдобные пироги с мясом и курагой, и взвар из сухих фруктов, и клюквенный кисель.
Не менее важным рождественским кушаньем была кутья — обыкновенная разваренная пшеница с орехами и изюмом. Но в сочельник готовилась так называемая «голодная» кутья — без изюма, чуть подслащенная сладкой водичкой.
Мы уже готовились сесть за стол, чтобы съесть «голодную» кутью, когда к нам постучали.
Дверь отворилась, и, впустив за собой облако белого морозного пара, в хату вошла закутанная шалью женщина, в полушубке и валенках. Она поставила на стол обвязанную ручником большую глиняную миску и сказала:
— Принимайте вечерю, тетка Варвара. Да помяните моих диточек… — И горько заплакала.
Носить друг другу под рождество «вечерю», то есть «голодную» кутью и взвар, было старинным обычаем живших на хуторе украинцев-тавричан. Мать стала утешать соседку, но та, закрыв глаза шалью, сказала: «Прощевайте» — и вышла. Мать проводила ее за порог, вернулась встревоженная. Мы, сидя за столом, невольно притихли. Отец хмурился.
— Детей по хутору душит глотошная, а они ходят друг к другу — «вечерю» носят, распространяют заразу, — сердито сказал он. — Это же кого у нее задавило?
Мать вздохнула:
— Двоих: парнишку Саньку, что еще с нашими бегал, и девчонку, нашему Коле ровесницу. Два дня назад как похоронила их тетка Приська.
— Вот и к нам, гляди, занесла болезнь, — проворчал отец.
— Бог милует, — ответила мать. — Как бы я ее не пустила? По-ихнему грешно «вечерю» не принимать.
Я и Тима с большим аппетитом ели взвар и кутью тетки Приськи; мы еще не понимали, как могли похоронить нашего однолетка белоголового Саньку, с которым мы совсем недавно играли. И что такое «хоронить»? Острый на слово Тима первым задал матери такой вопрос. Мать печально ответила:
— Закопали Саньку и Евдошку в землю — вот и похоронили.
Мы приуныли: быть закопанным в землю — кому бы не показалось страшным? И только самый младший братишка, Коля, совсем не печалился. Он тянулся к миске с кутьей пухлыми ручонками и забавно лепетал:
— Ням, ням… Хотю катю.
Коля был веселый, резвый ребенок, полненький, кареглазый, смешливый. Накануне к празднику мать сшила ему длинную, почти до пяток, красную рубашонку; отец надел на его белую шейку шнурок с нанизанными на него бубенчиками. Коля бегал по хате, позванивая бубенчиками, и заливался беспечным смехом.
Придя с работы, отец подхватывал его на руки и, любуясь им, ласкал чаще, чем нас. Но мы с Тимой не обижались — мы очень любили Колю и целыми днями возились с ним, затевали всякие игры, катали его по хате в сделанной отцом тележке на скрипучих деревянных колесиках.
Закончив предпраздничную «вечерю», мы легли спать, а ночью Коля вдруг закашлялся, заплакал, и его стошнило. И до самого утра он часто просыпался и плакал. Отец и мать встревожились и долго шептались. Были слышны отдельные пугающие слова: «Не дай бог… Что мы будем тогда делать?» — «Ничего, мать, все обойдется», — успокаивал тихо отец.
Помнится, и мы с Тимой спали беспокойно — мне снились страшные сны, и все время во рту чувствовался кисловато-горький вкус клюквенного киселя и «голодной» кутьи.
Но пришло утро, страхи развеялись. К нам явились из тавричанских дворов «христославы» — взрослые парни со звездой, склеенной из цветной бумаги и стекла, приделанной к палке, складно пропели: «Рождество твое, христе-боже наш…» Мать дала им леденцов и по куску пирога, и славильщики ушли. За ними повалили другие; они ходили по дворам ватагами, иногда изрядно подвыпившие, и отец не пустил их.
С восхода солнца Коля принялся бегать по хате и звенеть бубенчиками. Мы возили вокруг стола игрушечные колясочки, воображая, что едем в город. Но к полудню Коля вновь расплакался и закашлялся, его опять стошнило. Как-то сразу оборвался его смех, перестали звенеть бубенчики. Мать взяла его на руки, сжала ладонями голову и обнаружила жар.