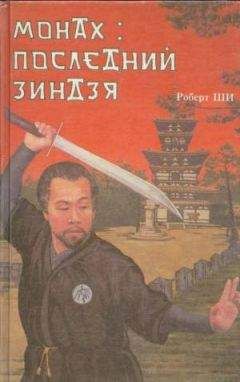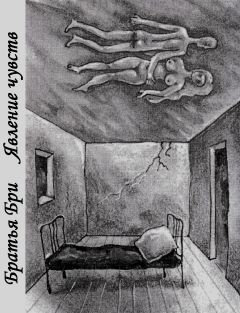Андрей Белый - Книга 3. Между двух революций
Юноша нашего кружка, студент Оленин, с браунингом, от Пигита поздней удалился за город: упражняться в стрельбе.
Кистяковский еще терпел Эллиса, пока этот предавал огню и мечу не Москву, а весь мир; я еще не узнал будущего «героя» Кронштадта, Бунакова Непобедимого, в Илье Фундаминском81, скромно сидевшем у Фохта; пьянистка Сударская, жена Фохта, была в тесной связи с эсерами; а сестры Мамековы, посетительницы религиозных собраний, — с группою Савинкова; знали друг друга в литературных кружках; не знали еще — кто какой политической ориентации; и Морозова, меж Лопатиным и Хвостовым склонясь ко мне, очень мило конфузилась под трелями моего голоса, певшего об Эрфуртской программе82.
— «Да, да, конечно… Прекрасно… только вот: заря и Ницше».
Я ж: зорями — зори: а революция — революцией; все это свяжется: в царстве свободы; умная барышня, Клара Борисовна Розенберг, в салоне которой бывал Каблуков, мне это доказывала меж двумя цитатами: из Ницше и… Энгельса; тайные организации уже брали «салон» на прицел.
Университет сам по себе интересовал мало; его новый «ректор от автономии», князь С. Трубецкой, пока еще «умиритель» студентов, открыл для сходок аудитории; сходки шли перманентно; ежедневно торчала моя голова из моря тужурок, чтобы потом штурмом атаковать двери квартир: и внедрять в сознания обитателей речи ораторов; я встречал сочувствие у Владимировых; я кричал с воспаленным Рачинским, а прятавшийся под мамашиной юбкой Эртель кивал из-под юбки мне: бомбы — не для него, а для нас.
— «Я же чеаэк науки, Боинька».
Я себя не узнал; папа бы сказал: «Что с тобой, Боренька?»; я поднял руку за немедленное прекращение всех занятий с превращением университета в трибуну революции; аудитория ж голосовала за эту трибуну, но — с сохранением занятий; ректор, князь Трубецкой, не раз появлялся на кафедре; он вытягивал оттуда длинную шею и прижимал к груди руки в усилиях нас усовестить; он поставлен был перед неизбежностью: запереть двери аудиторий, чего не хотел, иль сложить ректорство, которого он добился для прав университета.
Помню последнее его появление с усилием «спасти» автономию; тщетно: в стенах университета была свергнута власть, изгнаны либералы; шел же турнир: эсеров с эсдеками; Трубецкому не дали договорить; уронив на кафедру руки и упираясь на них, он глазами, полными слез, оглядывал море тужурок:
— «Эх, господа!»
И, махнувши рукой, вышел он.
Скоро он попал в Петербург; и взлетел там в министры; но с разорванным сердцем упал на «министерском» собрании83; Сережа был у него, в силу традиций детства, в Москве незадолго до его смерти; он нашел его возбужденным; Трубецкой то бил себя в грудь и доказывал «безумие» нашего поведения; то, невесело веселясь, исходил в шаржах.
В эти дни я — пара Эллису, сгоравшему без остатка; то влетал он с марксистом, а то — с драматургом Полевым, — плодовитым, бездарным; обтрепанный, длинноволосый, хромой (кажется, с деревянной ногой), Полевой опирался на палку, и все ею взмахивал, свергая традиции, быты, редакции; он зачитывал Павла Астрова своими драмами, от которых мы падали в обморок; мы прозвали этого читуна — Капитан Копейкин!84 Леонид Семенов, супясь, упорствовал:
— «Такие, как он, интереснее Дягилевых!» Забежав без калош, наследив на полу, Эллис плюхался
в плюши кресла в сыром пальтеце, в набок съехавшем котелке; и тяжело дышал, мне подставив зеленое ухо (изговорился, избегался); отдышавшись, куда-то все влек:
— «Будет и Череванин!»
Мы с ним мчались по взъерошенной улице; и — бежали кругом; вероятно — добрая половина бежавших — бежала на митинг, где на стул уже вставал присяжный поверенный Соколов, чтобы басом бить в сердце дам, где со стула уже квакал Бальмонт, обдавая презрением «трусов»; от Эллиса узнаю, что рабочие готовятся выступить; он мчал меня по каким-то квартирам — без передышки, без отдыха: от похорон Трубецкого до похорон Баумана;85 и — ничего не помню; какой-то туман; вот с знакомого дивана мадам Христофоровой поднимается Озеров, экономист, уясняющий нам ситуацию дня; Христофорова ему кивает умильно: она поняла теперь; она едва отдувается от налога, потребованного Эллисом: в пользу организаций; у нее бывает и умница К. Б. Розенберг; эта, по-моему, открывала сеть пунктов для записи давления и политической температуры салонов; записи ориентировали, вероятно, эсдеков.
Все — туман: в эти дни: Христофорова, Озеров, Розенберг и Пигит, неумело куда-то тащащий словами о браунинге и десятках; раз он прочитал нам стихи; все мы писали стихи о «вершинах»; но мы ж — декаденты; мы — ахнули: и… и… Пигит стал за нами шагать на вершины.
— «Ги-ги-ги, — залился Эллис смехом, — вершинами таки я допек его: даже и он — „зашагал“!»
Может, шагал для того, чтобы мы, «аргонавты», шагнули: с вершины — к браунингу из Финляндии!
Памятен день похорон Трубецкого: Никитская, солнце, толпа из знакомых (казалось: незнакомые — примесь лишь): М. К. Морозова, Г. А. Рачинский, все Астровы, Л. М. Лопатин, Хвостов, Кизеветтер, и «аргонавты», и все писатели, все художники, все композиторы, профессора; и — вчерашняя сходка филологической и большой юридической; за гробом два чернобородых брата, — высокий Евгений, завтра же заместитель Сергея по кафедре, и малорослый Григорий, ответственный дипломат: хоронили — министра, ректора, философа, «либерала», профессора; гроб стянул партии: от будущих октябристов до анархистов; процессия тронулась; вспыхнули в солнце: и красные ленты венков, и золотые трубы, зарявкавшие марсельезу; московский «протест» впервые вышел на улицу; стало это бесспорно; руки, тащившие груду цветов или — гроб, перевалили за Каменный мост; из боковых улиц, расстраивая ряды Трубецких, Морозовых и Рачинских, ввалились рабочие; отовсюду проткнулись в лазурь острия ярко-красных знамен; заворчало — оттуда, отсюда: «Вы жертвою пали»; пьянил теплый день; веселились: не похороны — светлый праздник, которого ждали86.
Не помня себя, я летел вдоль процессии: от головы до хвоста, от хвоста к голове: от Морозовой — к Леониду Семенову; и от него: к неизвестному мне рабочему, с которым затеялся разговор; точно клуб, — перенесенный под небо; точно струящийся митинг по Замоскворечью; спорящие отдельные пары, тройки, четверки; голоса заглушали оркестр и хор; Леонид Семенов, вцепившийся в цепь, и меня в цепь вцепил; мы качались с ним в цепи, схватяся за руки, растягиваясь и стягиваясь:
— «Хорошо здесь толкаться», — он бросил под солнце; и ярким румянцем дышало лицо его.