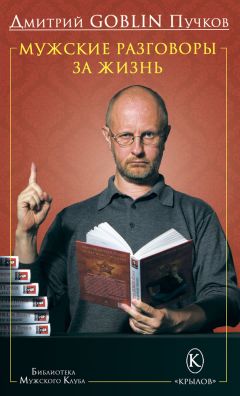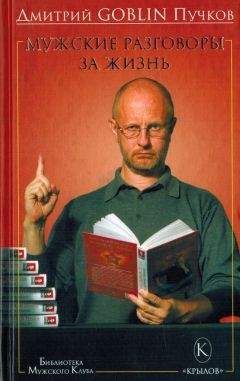Мэри Нортон - Добывайки
— Что ты делаешь, Арриэтта? — позвала ее из кухни Хомили.
— Пишу дневник.
— А! — воскликнула Хомили.
— Тебе что-нибудь нужно? — спросила Арриэтта. Она могла не бояться; Хомили любила, когда она пишет, Хомили поощряла все виды культуры. Сама она, бедняжка, даже букв не знала.
— Ничего, ничего! — сказала мать, грохоча крышками. — Успеется. Арриэтта вынула карандаш. Это был маленький белый карандашик
с привязанной к нему шелковой ленточкой, снятый с бальной программки, но в руках Арриэтты он казался не меньше скалки.
— Арриэтта! — снова позвала из кухни Хомили.
— Да?
— Подбрось-ка немного угля в огонь.
Арриэтта крепко ухватила книгу обеими руками и с усилием сняла ее с колен. Они держали топливо — угольную крошку и измельченное свечное сало — в оловянной горчичнице и подбрасывали его в очаг ложечкой для горчицы. Арриэтта чуть-чуть наклонила ложечку и стряхнула несколько крупинок, чтобы не затушить огонь. И осталась стоять у очага, наслаждаясь теплом. Это был замечательный очаг; дедушка Арриэтты смастерил его из цевочного колеса, которое когда-то было частью пресса для приготовления сидра. Спицы колеса расходились в разные стороны, а в центре находилось гнездышко для самого очага. Над ним был колпак из воронки, подвешенной раструбом вниз. Через эту воронку некогда наливали керосин в керосиновую лампу, стоявшую в холле. Целая система труб, отходящих от горлышка воронки, уносила дым наверх, в кухонный дымоход. Разжигали очаг полешками-спичками, а уж потом подбрасывали угольную крошку; и когда он разгорался и железо раскалялось, Хомили ставила на спицы серебряный наперсток с супом, чтобы он потихоньку кипел, а Арриэтта калила орехи. Какие это были славные, уютные зимние вечера! Арриэтта с огромной книгой на коленях — иногда она читала родителям вслух, — Под с сапожной колодкой в руках (он был сапожник и шил туфли из лайковых перчаток… теперь, увы, только для своей семьи), и Хомили, наконец-то переделавшая все по хозяйству, со своим вязаньем.
Хомили вязала им нижнее белье, фуфайки, жакеты и чулки на булавках с головками, а иногда на штопальных иглах. Возле ее кресла всегда стоял огромный, высотой в стол, моток шелка или простых ниток. Иногда, когда она слишком резко дергала нитку, моток опрокидывался и выкатывался через открытые двери прямо в темный проход. Тогда Арриэтту посылали прикатить его обратно, аккуратно наматывая по пути. Пол в столовой был покрыт темно-красной промокательной бумагой, она была мягкая, красивая и впитывала все, что на нее проливали. Время от времени Хомили ее меняла… когда можно было раздобыть новую наверху; но с тех пор как тетя Софи слегла в постель, миссис Драйвер редко вспоминала о промокательной бумаге, разве что в доме ожидали гостей. Хомили любила вещи, которые избавляли ее от стирки, ведь не так-то просто сушить белье, когда живешь в подполье. Воды, правда, у них было предостаточно и холодной, и горячей — благодаря батюшке Поду, который отвел трубки от кухонного котла. Купались они в фарфоровой супнице. Кончив купаться, вылив воду и вытерев ванну, полагалось закрыть ее крышкой, чтобы никому не вздумалось складывать в нее грязные вещи. Мыло, целый большой брусок, висело на крюке в кладовой, и они отрезали от него по кусочку. Хомили любила дегтярное мыло, но Под и Арриэтта предпочитали сандаловое.
— А сейчас что ты делаешь, Арриэтта? — опять окликнула дочку Хомили.
— Все еще пишу дневник.
Арриэтта снова обеими руками взяла книжку и взгромоздила ее себе на колени. Она лизнула кончик огромного карандаша и, глубоко задумавшись, уставилась в пространство. Она разрешала себе написать (когда вообще вспоминала о своем дневнике) одну-единственную строчку в день, потому что у нее никогда в жизни — в этом она была уверена — не будет больше дневника и, если она напишет двадцать строчек на каждой странице, ей хватит этого дневника на двадцать лет. Арриэтта вела дневник уже два года и сегодня, 22 марта, прочитала свою последнюю запись: «Мама сердится». Она еще подумала, затем под словом «мама» поставила знак «— ,, —», а под словом «сердится»— «беспокоится».
— Что ты сказала, ты делаешь, Арриэтта? — окликнула ее Хомили. Арриэтта закрыла дневник.
— Ничего, мама, — сказала она.
— Тогда, будь умницей, наруби мне луку… Отец что-то запаздывает сегодня…
Глава третья
Арриэтта со вздохом отложила дневник и пошла на кухню. Она взяла у Хомили кольцо лука и, повесив его на шею, принялась искать кусочек бритвенного лезвия.
—Фу, Арриэтта! — воскликнула Хомили. — На чистую кофточку! Ты хочешь, чтобы от тебя пахло, как от мусорного ведра? На, возьми ножницы…
Арриэтта переступила через луковое кольцо, словно это был детский обруч, и принялась рубить его на части.
— Отец запаздывает, — снова проговорила Хомили, — и это я виновата. Лучше бы я не…
— Что «не»? — спросила Арриэтта. Глаза ее налились слезами, в носу щипало; она громко шмыгнула носом и подумала, как было бы хорошо вытереть его о рукав.
Хомили откинула назад прядь жидких волос. Мысли ее витали где-то далеко.
— Это все та чашка, что ты разбила… — сказала она.
— Но я разбила ее давным-давно… — начала Арриэтта, моргая глазами и снова громко шмыгая носом.
— Знаю, знаю. Ты тут ни при чем. Это все я. Не в том дело, что ты разбила чашку, а в том, что я сказала отцу…
— Что ты ему сказала?
— Ну, я просто сказала… там же есть еще чашки, в этом сервизе, сказала я, там, наверху, в угловом стенном шкафчике в классной комнате.
— Не вижу в этом ничего плохого, — возразила Арриэтта, кидая кусочки лука один за другим в кипящий суп.
— Но он очень высоко висит, этот шкафчик, туда надо забираться по портьерам. А твой отец, в его годы… — И она вдруг села на пробку с металлической головкой от бутылки с шампанским. — Ах, Арриэтта, лучше бы я никогда не упоминала об этой чашке!
— Не волнуйся, — сказала Арриэтта, — папа знает, что ему по силам. — Она вытащила резиновую пробку от флакончика из-под духов, которой было заткнуто отверстие в трубке с горячей водой, и выпустила несколько капель в жестяную крышечку от пузырька из-под пилюль. Затем добавила туда холодной воды и принялась мыть руки.
— Может, и так, — сказала Хомили. — Но я без конца твердила ему про эту чашку. Ну зачем мне она?! Твой дядюшка Хендрири никогда не пил не из чего, кроме простой желудевой чашки, а он дожил до преклонного возраста, и у него хватило сил переехать на другой конец света. У моих родителей был один-единственный костяной наперсток, из которого пили все по очереди. Но если у тебя была настоящая фарфоровая чашка… ты понимаешь, что я хочу сказать?
— Да, — ответила Арриэтта, вытирая руки о полотенце, сделанное из бинта.
— Главное — портьеры. Ему не взобраться по портьере в его годы… по этим бомбошкам…
— Со шляпной булавкой взберется, — возразила Арриэтта.
— С булавкой! И этому тоже я его научила! Возьми шляпную булавку, — сказала я ему, — привяжи кусочек тесьмы к головке, и подтягивайся на ней. Это когда я просила, чтобы он добыл часы с изумрудами в Ее спальне. Хотела знать, сколько времени печется пирог! — Голос Хомили задрожал. — Твоя мать дурная женщина, Арриэтта. Эгоистка, вот кто она.
— Знаешь что? — внезапно воскликнула Арриэтта. Хомили смахнула слезу.
— Что? — еле слышно сказала она.
— Я могу взобраться по портьере. Хомили встала.
— Хорошенькое дело! Да как ты смеешь говорить мне такие вещи?!
— Но я могу, могу, могу! Я сумею добывать все что надо.
— Ах! — чуть не задохнулась Хомили. — Гадкая девчонка! Как у тебя только язык поворачивается?! — И она снова рухнула на табуретку из пробки. — Вот до чего, значит, дошло!
— Мамочка, не надо, пожалуйста, — взмолилась Арриэтта, — ну, не расстраивайся же так!
— Как ты не понимаешь… — с трудом начала Хомили; она уставилась на стол, не в состоянии найти убедительные слова, наконец подняла к дочери осунувшееся лицо. — Детка моя, — сказала она, — ты не знаешь, о чем говоришь. Добывать совсем не так легко. Ты не знаешь… и, слава богу, никогда не узнаешь, — голос ее упал до боязливого шепота, — как там, наверху…
Арриэтта ничего не сказала. Но через минуту спросила:
— А как там, наверху?
Хомили вытерла лицо передником и пригладила волосы.
— Твой дядюшка Хендрири, — начала она, — отец Эглтины… — И тут она остановилась. — Послушай!.. Что это?
Издали донесся еле слышный звук… словно защелкнули щеколду.
— Отец! — воскликнула Хомили.— Ой, на что я похожа! Где гребешок? У них был даже гребешок: крошечный серебряный старинный гребешочек для бровей, выпавший когда-то из ларчика в верхней гостиной. Хомили быстро провела им по волосам, сполоснула красные, заплаканные глаза, и, когда появился Под, она, улыбаясь, разглаживала обеими руками передник.