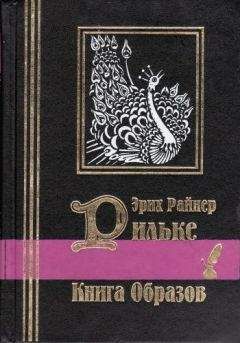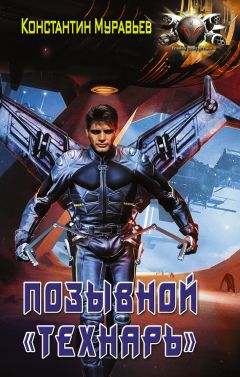Ирина Сабурова - О нас
Хозяин отходил постепенно на какой то нереальный план. Иногда Таюнь казалось, что она смешивает его уже с милордом, еще больше растаявшим в тумане. Жизнь в Балтийских республиках после Первой мировой войны и революции налаживалась постепенно, ширилась, упорядочивалась, и никто не торопился разбирать старые архивы. Главное, что легендарный хозяин так и не нагрянул за все двадцать лет срока этой жизни. Может быть он был богат, и не заботился о брошенном клочке земли и старом доме? Или умер где нибудь, и наследники не подозревали, что у них в холодной Балтике есть дом с белыми колоннами, -- или и наследников не было вовсе? Как бы то ни было, но счастливая нелепица так и осталась: последняя англичанка, все еще красивая "Лебедь" до следующей войны бродила на покое по зеленому лугу и просовывала морду в окно за сахаром -- до конца.
Кроме мифов и конюшни была и другая жизнь. Было еще одно белоколонное здание на другом конце города, Академия Художеств, куда так тянуло Таюнь. Денег на учение не было, но нашлись художники, дававшие уроки, за гроши, за катанье верхом, корзинку клубники или по влюбленности просто. Урывками, схватывая у одного, у другого, то, чему можно научиться, Таюнь работала много лет, встав с самого начала на свою, упорно продолжаемую тропинку двух планов. В Риге было много художников: приглушенные, разливные тона живописца бледной северной природы -- Пурвита, смелые, сильные, как то по особенному волевые картины молодых латышских художников, очаровательные сказки Апсита, живые головки крестьянских детей Богданова-Бельского, ликующие солнечные тени Виноградова, мистика Бельцовой-Сутте, театральные декорации Антонова, Рыковского, Либерта, сжатые графики Юпатова, жанры Климова, всегда почему то угрюмые звери анималиста Высоцкого -- да разве перечтешь их всех. Однако, Лодька Звайгзне -- Таюнь не очень любила его слишком яркие пейзажи и слишком тяжелые портреты, но зато его самого, весело и беспечно умиравшего от чахотки -- Лодька Звайгзне сосчитал их почти всех, пригласив, к ее великому страху и трепету, на "верниссаж".
-- Белоколонный дом! -- восхищался Лодька. -- Верниссаж оригинальной молодой художницы, княжны Тьмутараканской! Подъезжают кареты, автомобили, и подаются ананасы в шампанском на завтрак для почетных гостей -- а непочетных не будет! Таюнь, я обдумал все. К этому времени у вас поспеет клубника, а битые сливки из соседней конюшни, где корова. Берусь бить. Без водки не обойтись, конечно, но одних бутербродов мало. Поразите чем нибудь потрясающим на закуску. Легчайшее блюдо -- нечего кормить почетных гостей. Когда мы останемся тет-а-тет с друзьями, -- тогда другое дело -- дайте чего нибудь поесть. Но зато вы будете признаны, честное слово!
Ни один цирковой номер не был таким страшным, как этот день. Прием на тридцать человек -- а может быть придет больше -- с ее то средствами! И первый большой прием в "усадебном доме". Будут журналисты. А она и в студии как следует не училась -- только так, сбоку, диллетантка. И Таюнь снова всматривается в свои картины, вспоминает, как вот здесь не могла справиться с тем и этим, хочется провалиться сквозь землю, страшно.
В Биненмуйже цветет сирень. Темно красная, лиловато-серебристая, белая, просто лиловая -- буйная, ликующая, солнечная, пьянящая сирень, -"виноградовский сюжет" -- сказал восхищенно Лодька. Кусты, посаженные Таюнь, разрослись, обступили террасу, развернулись веером от широких ступеней, прижались к стенам, заглядывают в окна. Июньское солнце встает рано, уже успело прогреть, залить золотистым теплом и песок разбегающихся дорожек, и лужайки, на которых первые брызги ромашек, клевер, синева колокольчиков. Торжественный каштан за домом высится костелом в зажженных свечах, гудит пчелиным органом, и кажется, что весь дом и все кругом звенит этим торжествующим сиреневым, весенним гимном. Аккорды ложатся шлейфами у колонн, стелются под ноги гостям -- и среди них немало удивленных восклицаний. Как, но ведь говорили, что Биненмуйжа -- это что то заброшенное, полуразвалины? Говорили, что молодая эксцентричная художница нанялась сюда дворничихой? А может быть рухнет крыша, или провалится пол, когда они войдут в дом?
Но натертый паркет (спасибо соколам!) -- мягко золотился в двухсветном зале, самой внушительной мебелью которого был камин. За нехваткой стульев, пришлось соорудить скамейки перед столом с закусками (кто бы мог подумать, что "стильная парча", которой они были покрыты -- всецело изобретение Таюнь, открывшей на чердаке, в числе прочих сокровищ, вылинявшие шторы?). Закуски: артистически приготовленные бутерброды, пирожки и горячая гречневая каша по совершенно особому рецепту -- были одобрены самыми капризными гурманами. Водки, конечно, не хватило -- но в конце концов, дело в картинах!
Таюнь принимала, показывала, знакомилась, угощала такое количество гостей, да еще таких важных! -- первый раз в жизни. Накануне она мучительно припоминала, как это делала мама, но мама редко принимала уже гостей. Самой ей пришлось бывать на приемах, но ... и наконец она нашла, на что опереться. Очень просто: рядом встал лорд Ферисборн, хозяин замка ли, дома, все равно: стоит только чуть повернуть голову, и она увидит рядом его высокое плечо, рука незаметно оперется на подбадривающую руку. Он ведет ее, уверенно и свободно, от одного к другому, вместе раскланивается, сдержанно улыбается, говорит, и улыбка не меняет внимательных, спокойно рассматривающих серых глаз, корректной, чуть удивляющейся иногда вежливости -- как тогда, в этот сумасшедший, солнечный, с ярко белосиними тенями день... а ведь это конечно, надо нарисовать: "Первый прием"! Новая тема для картины. Таюнь загорелась совсем не английской сдержанностью, и стала почти красивой. ("У нее коронки в глазах вспыхивают" -- отметил про себя Апсит.)
Тот же большой, грузный Апсит, с круглыми плечами, круглой темноволосой головой с легкой проседью, и темно карими, внимательно поблескивающими глазами, удовлетворившись обильной закуской после не менее обильного возлияния -- водрузился во весь свой рост посреди зала, обвел его рукой, и слегка усмехаясь полными губами, произнес неожиданно для всех громовую речь.
-- Моя юная коллега -- да, так я могу вполне вас назвать -- запомните на всю жизнь одно: не бойтесь. А бояться вам есть чего. Полуслепых, совсем слепых и умничающих людей. Не знаю, кого из них больше. Но все они, по мещански или по ученому, будут снисходительно пожимать плечами над вашим даром -- видеть сказки. Да, у вас сказочный дар. Вот старинный полуразрушенный дом, в который приезжают в каретах призрачные гости, и их встречает веселая диккенсовская семья. Вот осенний лес, из которого выезжает рыцарь на коне с кленовым листом на щите и хрустальными глазами. Вот менуэт теней в ледяном замке Грига. И все в том же духе. И правильно. Не беритесь ни за что другое. Вы нашли свой путь -- сказки. "Только сказочные картинки" -- скажут вам нищие духом. Да, и это "только" -- богатство. Вы сами богаты и раздаете его другим. Запомните, что этих других -- тоже очень много. Я встаю не только на вашу защиту, но вот и за этих многих других, а имя им -легион. Вы не Репин, не академик, и у вас никогда не будет громкого имени. Вы говорите шопотом. Вы не поражаете, не ослепляете мастерством, но даете задуматься и помечтать. Только. Вы безо всяких течений и измов, но зато у вас драгоценность: мечта. И притом эта мечтательная улыбка свойственна, заметьте, больше всего обездоленным, усталым, несчастным людям -- а таких больше всего. Они скромны и незаметны, у них часто не бывает в жизни ничего более яркого, чем их мечтания, они слишком робки и слабы, чтобы дерзать, слишком сердечны, чтобы стать опустошенными циниками, слишком бедны, чтобы учиться в мировых музеях и покупать орхидеи. Но Бог создал полевые цветы, и они для всех, кто их видит. Бог создал этих маленьких людей тоже, и их больше, чем великих. Гениями восхищаются, но понимают их немногие. Гениальными называют многих, которых забудут через двадцать лет. А вот великий гений Толстой сказал, что из всех человеческих произведений сказки переживают тысячелетия. У вас есть дар их видеть -- покажите их другим. Только если вы хотите исцелить кого нибудь улыбкой -- надо много болеть самому. Вы не люстра, а лампадка. Оставайтесь ею. И как бы на вас ни шипели -- не бойтесь. Лампадки нельзя тушить. Она согревает душу. А это уже очень много -- достаточно для смысла человеческой жизни, коллега. Когда постареете, поймете это. Бейтесь за свои сказки. Уважайте тех, кто сам что-то создал, воздвиг, все равно, что: построил дом или лодку, произведение искусства или формулу, но оправдал свое назначение человека, который создан по образу и подобию Творца, и потому может творить и создавать сам по силам своим. Но не почитайте тех, кто ничего не создал, а только нахватался чего нибудь, и судит, разъедает многословием, расщепливает волосок, философствует без мысли, и способен только подтачивать, разрушать, опустошать, обесцвечивать -- и ожесточаться самому. Бойтесь людей с бельмом на глазу! Это клеймо пустоты и они кладут ее печать на все вокруг себя. Если они умны -- тем хуже, если талантливы -- то ядовитее. Дать они не могут, ни себе, ни другим, и поэтому разрушают все. Отходите от них. Не бойтесь малого. Создавайте в нем -- большое. А сказка -- значит очень много. В чем ее сила? В том, что она претворяет жизнь в то, чем она должна была бы быть -- и бывает иногда -- и примиряет с тем, чем она есть на самом деле. Сказка -это квинтэссенция, катализатор, высшая сублимация жизни, если уж хотите ученое слово. Поэтому каждый претворяет ее по своему, раскрывает ее своим ключом, творит вместе с вами. Поэтому она понятна всем, кто не утратил чувства жизни, того, что мы называем поэзией, музыкой, мечтой. А кроме всего, что я вам наговорил, и в вашу честь, и в защиту вот этих маленьких людей, которые тоже жаждут, но их презрительно сбрасывают со счетов и снисходительно поучают снобирующие критики, умалчивая конечно, что не будь этих маленьких -- и им нечем было бы жить -- кроме всего этого, у вас редкая удача: сразу найти свой собственный голос, свой жанр. Он прост и оригинален, трогает сердце и заставляет думать. Чего же больше?"