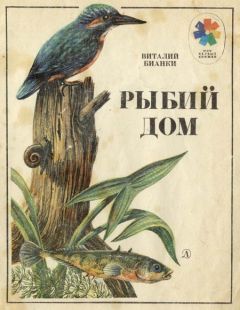Михаил Коршунов - Я слушаю детство
Но он не стучал, не возвращался.
Минька сам пройдет по всем тем местам, по которым они с Борисом ездили на старом велосипеде-"кузнечике".
Где раскачиваются высокие травы, а в них шумят жуки. Солнце горячее, и пахнет мятой. Где со дна реки светятся белые ступеньки песка. Ветер застревает среди густых деревьев. Где еще не проложены дороги и тропинки.
Он отыщет все эти места и покажет людям. Чтобы пришли с рубанками, молотками и пилами. Чтобы полетели желтые пружины стружек, посыпались мягкие отруби опилок. Чтобы люди построили себе дома, в которых каждый гвоздь будет согрет солнцем.
ТО ДАЛЕКОЕ, ЧТО БЫЛО
Рассказ в конце повести
1
Я думал о встрече с детством. С каждым годом становился нетерпеливее. Все острее видел то далекое, что было.
Я закрывал глаза, и - пускай совсем другой, за тысячу километров от Симферополя город - я слышал нездешнее лето, слышал детство. Бахчи-Эль.
Скрипят на крутом повороте колеса трамвая, жуют, встряхивают торбами с овсом лошади, кричит курица - снесла яйцо.
Падают, скатываются по решетке куски угля - просеивают антрацит. Сухо шуршат большие листья - качаются под ветром заросли колючек. Белой проволокой дрожит в степи зной. Расчеркивают небо черными карандашами ласточки. Примусы держат над головой синие колокола пламени.
Я слышал звук виолончели. Это играет Остап Григорьевич, разминает пальцы. Он выступает в оркестре в кинотеатре "Марсель" перед началом вечерних сеансов.
Он старый и добрый. И виолончель у него старая и добрая: гудит на весь двор между синими колоколами примусов.
Я, Ватя и Аксюша сидим на деревянном топчане. Молчим, хочется спать.
Вышел во двор Фимка. Крутит в стакане ложкой, взбивает желток с сахаром. Потом будет ходить испачканный желтком, пока не увидит мать и не умоет.
Один раз, когда Фимка ходил испачканный желтком, его укусила за язык пчела. Фимка загудел, как виолончель соседа.
Стукает нож по доске - это режут на борщ капусту и свеклу.
Борщ умеют готовить в каждом доме. В тяжелых кастрюлях он стоит потом в глубоких подвалах, прячется от солнца. Носить в подвалы борщи - ребячье дело.
Где-то на краю улицы глухо бухает по ковру палка - выбивают пыль.
Лают собаки от двора ко двору. Ближе, ближе. Ходит почтальон или инкассатор, снимает показания с электрических счетчиков.
Наш Эрик тоже знает, почему лают. Вылазит из конуры, ждет своей очереди. Он прекрасно знаком с почтальоном и инкассатором. Но лаять надо. Таков порядок. Будет лаять незлобно, не натягивая цепь.
Если почтальон или инкассатор задерживаются в соседнем дворе, псы от нетерпения взбираются на крышу конуры, выглядывают.
Почтальон - худенькая девочка в пиджачке. Зовут ее Кима. Она совсем не боится собак. Проходит с сумкой перед их носом да еще туфелькой притопнет - цыц! Собакам это очень нравится.
Иногда Кима не заходит в калитки, а бросает почту в открытые форточки: спешила - у нее не было времени. Каждый любит с Кимой поговорить, поэтому со двора быстро не уйдешь.
Мы с Ватей тоже любим Киму. Она дает посмотреть чужие журналы.
Почтовый ящик на нашей улице пахнет розой. Это придумала Кима. Утром кидала в него лепестки цветов, и они лежали в ящике, пока она не выбирала письма и не относила сдавать на почту.
Вся улица начала кидать вместе с письмами лепестки цветов. И когда письма уходили в другие города, они не пахли штемпельной краской. Они пахли крымскими розами.
Инкассатор толстый. Зовут его Мартын Кирьянович. Ходит медленно, вперевалочку. Носит толстую книгу, проложенную бланками счетов.
Мартын Кирьянович гораздо больше похож на почтальона, чем Кима.
С собаками он разговаривает, помахивает пальцем, стыдит их. Дает понюхать свою толстую, со счетами, книгу. Собакам это тоже очень нравится.
Мартын Кирьянович никогда не спешит. В каждом доме затевает обстоятельные разговоры об урожае, о непослушании детей, о разведении кроликов.
Соседним собакам иногда долго приходится стоять на крышах конуры.
...Начало августа. Поспел кизил. Все собирались в лес, вся Бахчи-Эль. Надо пройти восемь километров вдоль Салгира до бывшего имения помещика Весьлера.
Выпали недавно дожди, поэтому кизил будет крупный, мясистый.
Я, Ватя, Аксюша, Гопляк, Таська Рудых, Лешка Мусаев берем корзины и рано утром по холодку шагаем к Весьлеру.
Сперва мы наедаемся кизила, а потом начинаем собирать.
Идем домой с полными корзинами. Устали, выкупались в Салгире и пошли дальше.
Звенят синие колокола примусов, дымят мангалы: будет из кизила варенье. Кизил стоит в больших зеленоватых бутылках, вместо пробки прикрытых марлей, - будет наливка. Кизил лежит на крышах под солнцем будет на зиму сушка.
Фимка больше не крутит в стакане желтки - он ест пенки с варенья. Ходит не желтый, а красный, кизиловый и липкий, как бумага для мух. Его теперь умывает каждый, кто увидит.
- Ножи! Топоры! Ножницы!
Это кричит точильщик Беркеш. Он медленно идет вдоль улицы с деревянным станком на плече. На станке укреплены точильные камни, банка с водой, висят лоскуты материи.
Хозяйки выносят Беркешу ножи, топоры, ножницы.
Он пристраивает станок в тень к забору и запускает педалью точильный камень. Камень крутится. Летят искры.
Беркеш поет песню.
Изредка взбрызгивает водой из банки нож, топор или ножницы, вытирает лоскутом материи и продолжает давить педаль и петь песню.
Ребятам разрешает подставлять под искры ладони. Ух ты! Жгутся или не жгутся? Подставлять ладони выстраивается очередь.
Про мамонта первой узнала Аксюша. Она ходила в бывшие сады фабриканта Дюпона покупать в совхозе яблоки на повидло.
Вокруг садов были известковые скалы. В них и обнаружили мамонта.
Ребята целыми днями пропадали в садах Дюпона, наблюдали, как из белого известняка археологи осторожно вырубали скелет мамонта.
За воротами на улице протяжный железный шум. Его надо знать, чтобы догадаться, откуда он. Надо самому побегать босиком по дороге по дымной пыли с проволочным крючком. Это ребята катают обручи от бочек, "ездят".
Мы с Ватей тоже катали обручи, "ездили", куда нас посылали - в аптеку, в магазин, в швейную мастерскую. Сумку приспособили перекидывать за плечи, чтобы не мешала. "Ездили" и просто по тропинкам в степь, по деревянным мосткам через Салгир, даже вкатывали обручи на курганы.
Шум прерывается - это ребята отдыхают. Когда отдохнут и поедут дальше, в пыли останутся большие круглые следы: здесь лежали на дороге обручи, тоже отдыхали.
...Сильный запах кукурузы. Початки сложены в глубокий казан, варятся второй час. А чтобы лучше уварились и потом долго не остывали, прикрыты листьями.
Я жду, когда же початки будут готовы. Стол покрыт клеенкой. На столе - соль, сливочное масло. Струйка пара вылетает из казана, кучерявится под потолком.
Нюхаю пар. Жду. Это первая в этом году кукуруза, тонкая, молодая, напитанная росой и летними прозрачными дождями.
Наконец готова. Казан на столе. Затихает, перестает кучерявиться струйка пара. Под листьями, как под зеленой крышей, лежат кочаны с тугими каплями зерен.
Вытягиваешь из-под крыши кочан. Горячий. Перекидываешь с ладони на ладонь, остужаешь. Не терпится. На клеенку летят брызги воды. Когда кочан можно уже держать, намазываешь его маслом и посыпаешь солью.
Ну вот и дождался - ешь, радуйся.
А это что тихонько журчит и побулькивает? Это заправляют керосином лампу. Лампа висит в сарае, где нет электричества. Еще с нею вечером спускаются в подвал. Пока идешь через двор, вокруг лампы шумят ночные жуки. Они залетают даже в подземелье подвала. А потом снова провожают лампу через двор.
Мигают сиреневые искры звезд. В садах между деревьями развесил парусину туман. Переговариваются, спрашивают о чем-то друг друга собаки. Жуки улетают куда-то в ночь.
Стенные часы. Куплены еще прадедом. Я до сих пор слышу их тихую, усталую поступь, будто в домашних туфлях. Их негромкое покашливание, перед тем как собираются пробить, отмерить время. Они никогда не останавливались. Только один раз - от землетрясения.
Аксюше подарили шоколад. Но, пока везли из города, он растаял. Переливался в своей серебряной упаковке, как молоко в бутылке. Аксюша огорчилась. Но Ватя придумал: шоколад отнесли в подвал к борщам. Вскоре он застыл, и мы его съели среди борщей, поделив на три части.
...Не знаю, когда это произошло, но я увидел в Аксюше девочку с узкими коленками, едва прикрытыми легким платьем. Увидел маленький нос с ласковой ужимкой, губы, глаза, гривку встрепанных волос.
Теперь, когда приходили к Салгиру купаться и Аксюша раздевалась, я отворачивался, хотя она была, как всегда, в пестром ситцевом купальничке. Но мне казалось, что я уже не должен на нее смотреть вот так, слишком близко. Что это будет нехорошо по отношению к ней.
Аксюша этого не понимала. Позабыв расстегнуть пуговички, сдергивала платье и, запутавшись в нем, кричала: