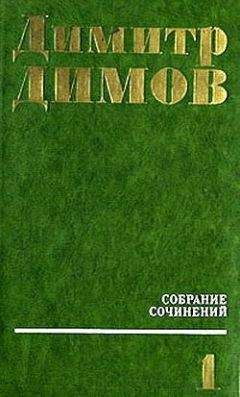Димитр Гулев - Большая игра
Подождав, пока уменьшится поток машин на проспекте, Крум перешел на другую его сторону. Здесь было тихо, оживление, спешка и суета остались позади. На низеньких, окрашенных в зеленый цвет скамейках сидели люди.
Время текло медленно.
Что делает сейчас Яни?
Отдал ли «пежо» Паскалу?
Когда же снова покажутся Лина и Чавдар? Скоро ли пойдут домой?
Крум огляделся. Где-то за спиной, вырисовываясь на фоне Витоши, в красноватых отблесках заката возвышался памятник воинам-освободителям. И Крум вдруг подумал об отце, который каждую неделю, как по расписанию, или звонит им, или присылает цветные открытки из Ленинграда. На открытках отец писал письма домой. Он купил, наверно, целую гору открыток: почерк-то у него крупный, чертежный, с четкими, почти печатными буквами. Отец писал, что работы у него много, наказывал детям слушаться бабушку, учиться хорошо. Отец присылал сразу по восемь, девять, десять открыток, заботливо проставляя номера в правом углу. Будущим летом отец мечтает забрать всех к себе — и Крума, и Здравку, и бабушку. Тогда они своими глазами увидят город Ленина, эту северную Венецию, выросшую, как каменная гирлянда, на островах Балтики и Невы…
Сначала Крум украшал открытками их со Здравкой комнату: приклеивал их к обоям, расставлял на этажерке с книгами, потом Здравка завела альбом и стала вклеивать открытки туда.
Мимо медленно проходили люди, по проспекту мчались автомобили, а Крум все не сводил глаз с кафе, успокаивал себя тем, что вход расположен высоко, виден хорошо и он не упустит Лину с Чавдаром даже теперь, когда стемнело и уличные фонари засветились матовым молочно-белым светом.
Солнце село. Низко над землей плыли синеватые прозрачные сумерки. Водители включили фары, и металлические капоты заблестели. Крум сел на спинку скамейки, чтобы лучше был обзор. Впрочем, большинство молодых людей сидели на скамейках точно так же.
Лина и Чавдар все не появлялись.
В ярко освещенном кафе было полно народу, в открытых окнах второго зала кафе, для курящих, стояли облака синеватого дыма. Широкие ступеньки вели в оба зала. А где, интересно, Лина и Чавдар?
Паскал не говорил, курит ли его брат. Вроде Круму не доводилось видеть его с сигаретой — ни его, ни Лину.
Наконец показались знакомые фигуры. Да, это они!
Как и раньше, Чавдар нес битком набитую сумку Лины, теперь-то Крум точно знал, что там лежит вместе с учебниками, тетрадками и другими девчачьими штучками.
Но вместо того чтобы идти к дому, они направились к парку.
Крум неотступно следовал за ними. Уже поздно, бабушка, наверно, беспокоится, но уходить не хотелось.
На перекрестке Лина и Чавдар спустились в тоннель, вышли с другой стороны на аллею парка, и силуэты их медленно растаяли в сумерках.
Крум быстро пересек улицу. Прошел по мостику и островку посреди ярко освещенного озера с фонтанами. Выключил фары. И увидел: едва Лина и Чавдар вошли в темные аллеи, силуэты их слились.
Присев на корточки среди густых кустов и пахучих сухих трав, Крум видел, как Лина привстала на цыпочки, вытянулась и точно взлетела вверх. Он не различал лиц Чавдара и Лины, но живо представлял, как они целуются.
Потом Чавдар и Лина сидели на скамейке, а Крум, опустившись на траву, почувствовал себя ограбленным, раздавленным, опустошенным.
12Крума звали гулять — он не выходил.
Звали обедать — жевал нехотя.
Утром уходил в школу — один!
И один возвращался! И был молчалив как никогда!
Мальчики шли как всегда: Крум в середине (не впереди, а именно в середине), с одной стороны Евлоги, с другой — Яни, рядом Иванчо Йота, Спас, Андро, Дими. Ребятам весело, все обсуждают, чем бы заняться после обеда, а Крум молчит!
И все постепенно замолкают.
Приходили, звали его — сначала высвистывали с улицы, потом заглядывали в низкие окна:
— Бочка! Бочка!
Крум не откликался.
— Ушел! — слышался притворно бодрый голос Иван-то, но Крум догадывался: Иванчо сам не верит в это, никто из ребят не верит, что Крума нет дома.
Да и куда ему деться?!
Куда?
Здравка в школе, дома только бабушка, она не досаждает Круму вопросами, хотя тревога за мальчика не покидает ее. Бабушка не любила лишний раз беспокоить учителей расспросами о внуках, знала: если что, дети и сами справятся со своими бедами. Должны справиться, она их так воспитала. Да и какие у детей заботы, кроме учебы? Все у них в порядке — и у Крума, и у Здравки, и у их товарищей. Сыты, одеты во все новенькое, велосипеды у всех. Спасу вон пятый футбольный мяч покупают, знай гоняй себе по пустырю… А вот Евлоги жалко! Мать у него болеет, вечно он бегает с хозяйственными сумками. Умный мальчик, добрый.
А мать Крума и Здравки, ее невестка, рано оставила детей своих, бедная. Столько лет Гошо тоскует о ней! И дети… Чем больше растут, тем чаще спрашивают про покойную мать. Особенно Здравка. Крум-то более сдержанный, а последнее время из него вообще слова не вытянешь. И учеба парню не в учебу, и игра не в игру!
Так уж водится: материнскую ласку да материнский укор ничто не заменит. А Гошо ушел в работу, работа и дети для него все. Гошо молчун, Крум в него пошел и в деда. Бывало, станет Гошо уж совсем невмоготу, только и скажет: «Главное — дети и работа; важно, чтобы работа была по душе. Для этого и жить надо. Другое все проходит».
Как он там, в далеком городе?
Уж столько учился, так опять его послали.
Вот и товарищи Крума снова идут, стучат в дверь.
— Бочка! — кричат. — Бочка!
Крум не отвечает.
Мальчики уходят..
Дом снова затихает, низкий, вросший в землю, настоящее дупло.
Бабушка Здравка пришла сюда пятьдесят лет назад, сразу после свадьбы. Тут прошла ее жизнь, в этих комнатах, среди этой мебели, только телефон поставили и паровое отопление провели — вот и все новшества.
Что такое с Крумом, почему не идет гулять?
Видит бабушка Здравка, не слепая: растет Крум, вон как вытянулся, только что-то стал невеселый.
— Крум, сынок, — приоткрывает она дверь, — ты почему не выходишь, раз ребята зовут?
Заранее знает, что он ответит: «Учу уроки!»
А то она не видит, какие это уроки!
Что тут поделаешь? И бабушка Здравка снова закрывает дверь.
Написать отцу? Стоит ли его тревожить? Мало ему своих забот, еще о доме думать! Шуточное ли дело — целый завод закупает.
В темной прихожей раздается настойчивый звонок.
«Кто бы это мог быть?» — думает бабушка Здравка и медленно идет к двери.
Открывает.
— А, это ты, Яни! — обрадовалась она. — Входи!
Держа руль велосипеда, на тротуаре стоял Яни. Он никогда не звал Крума при других мальчиках, стеснялся произнести свое обычное «Боцка» вместо Бочка, а то все станут хохотать как сумасшедшие, но бабушка Здравка уверена, что Яни уже приходил вместе со всеми, потом сделал вид, будто уходит, и вернулся один.
— Входи, — приглашает она и чувствует, как на сердце полегчало.
Яни ставит велосипед в прихожей. Прислоняет его к стене рядом с велосипедами Здравки и Крума.
— В комнате он, — заговорщически шепчет бабушка Здравка.
Хочется ей погладить Яни по голове, всех товарищей Крума хочется приласкать. Знать, здорово она состарилась, если сердце стало таким мягким.
Перед тем как войти в комнату, Яни прислушался, но из комнаты не доносилось ни единого звука. Бабушка Здравка снова заговорщически кивает головой. Яни открывает массивную коричневую дверь и входит.
У стола лицом к окну сидит Крум.
— Это я. — Яни останавливается у стены.
Крум молча поворачивает голову. Лицо его спокойно, даже задумчиво. На столе в беспорядке лежат раскрытые тетрадки, учебники, книги. Именно по этому беспорядку (Крум обычно учит каждый предмет отдельно) Яни понимает: что-то с его другом неладно.
— Мы тебя звали.
— Я слышал.
— Не отвечаешь, не выходишь. Заболел, что ли? Крум устало улыбается.
— Ты такой с тех пор, — Яни упорно смотрел прямо в глаза другу, — как мы отвезли «пежо» Паскалу. То есть я отвез, а ты куда-то исчез.
Яни замолчал. Подошел поближе и сел на кровать, застланную красным покрывалом. У другой стены — кровать Здравки, так же аккуратно застланная. Кровати совсем одинаковые. Только над Здравкиной висит худенький, насмешливый и вместе с тем печальный Буратино. Взглянув на него, Яни вдруг вспомнил, как сползала с лица Паскала улыбка.
За дверью послышался легкий шум, будто мышка пробежала. Дверь бесшумно отворилась, и вошла бабушка Здравка с подносом, разрисованным крупными цветами. На подносе стояли розетки с айвовым вареньем, два тяжелых хрустальных стакана с водой, и свет угасающего дня преломлялся и сверкал в выпуклых гранях стекла.
По тому, как бабушка угощала гостей (соседок — кофе с вареньем, товарищей Крума — вареньем или вареной тыквой), как накрывала на стол, какую посуду доставала из буфета, легко можно было догадаться, кто из гостей ей особенно дорог.