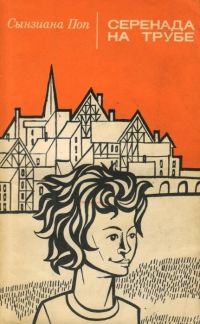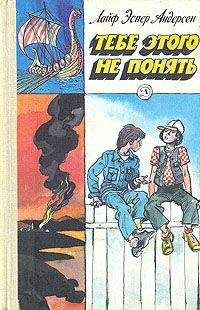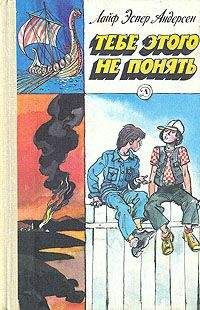Лайф Андерсен - Тебе этого не понять
«Ну, так в чем же тогда было дело? Тебя послушать, все у вас шло — лучше некуда!»
Я услышал голос Петера и очнулся. И мне даже жалко стало, потому что в этот момент мне было как раз так хорошо!
«Даже не знаю, что тебе сказать, — ответил я Петеру, но не сразу, а после довольного долгой паузы. — Понимаешь, однажды вечером он сидел и смотрел передачу по телевидению. Какие-то там деятели разглагольствовали о политике, о безработице и обо всяких таких вещах. Они о чем-то спорили, ругались, но в одном они все друг с другом согласились — что пройдет больше года, а то так и больше двух лет, прежде чем безработные смогут вновь получить работу.
Ты бы видел, какое лицо было у моего родителя, когда они вдруг брякнули это! Я просто глазам своим не поверил, но готов поспорить на бутылку колы, что у него слезы потекли».
Глава 7
«В общем, эта телепередача его, по-моему, доконала. Не представляю себе, какие у него были надежды, одно можно сказать наверняка: он не предполагал, что так надолго останется без работы. И, знаешь, мне кажется, тяжелее всего было для него то, что он видел, сколько всего нужно бы построить и как пригодились бы для этого его руки, а его взяли и лишили такой возможности. Я замечал это по его виду, когда мы по воскресеньям вместе ездили куда-нибудь на велосипедах. Ты не думай, у нас и машина была, но мы все трое считали, что на велосипеде интереснее, и он и мы с Куртом. Если, конечно, ехать было не очень далеко.
Я хороню это видел, когда мы проезжали мимо каких-нибудь старых домишек, которые давно пора снести. Губы у него как-то зло поджимались, А однажды он, помню, сказал:
«Людям в этих конурах требуются две вещи: бульдозер, чтобы срыть эту дрянь, и бригада каменщиков, чтобы построить новые дома, в которых можно нормально жить. Мерзость и свинство, иначе это не назовешь».
Ну вот. В общем, на другой день после этой телехалтуры он совсем свихнулся и пошел откалывать номера. Я первым вернулся в тот день из школы и, собственно говоря, мог бы обо всем догадаться, даже не заходя в дом.
Понимаешь, ему оставалось доделать только два с половиной окна и тогда бы весь наш дом был уже в полном порядке, но я увидел, что работа не сдвинулась ни на шаг. А когда я вошел в большую комнату, то сразу же увидел, почему. Родитель сидел в кресле и дрых как убитый. Развалился, ноги широко раскорячены, а голова откинута назад и рот распахнут, как фабричные ворота. Кругом невероятное количество пустых бутылок из-под пива, а на столе незатушенная сигарета скатилась с пепельницы и прожгла здоровое пятно. Он был просто-напросто вдребезги пьян.
Я стал на него орать, хотел, чтобы он проснулся и пошел лег к себе на постель, на него жутко было смотреть, как он валялся, раскорячившись в кресле. Нет, ни черта не слышит. Тогда я давай его трясти — все равно никакого впечатления. Болтается, как кукла, из стороны в сторону, прямо как будто он опилками набит. Тогда я сходил принес стакан воды и плеснул ему в физиономию. Это чуточку помогло, ну, и в конце концов он ожил настолько, что я с грехом пополам перетащил его в спальню и взгромоздил на кровать. А сам… Ладно, чего уж, скажу тебе всю правду, только ты обещай, что не будешь трепаться. Я его тащил, а сам ревел. Вот так вот, ревел, представляешь? Нет, не из-за того, что он был пьяный. Ну напился и напился, подумаешь, какое дело, проспится. Но, пока я тащил его в спальню, он все время бормотал одно и то же: «Дьявольщина, а, сынок? Два года псу под хвост. Два проклятущих года. Красить окна в собственном доме. Я же каменщик, сынок. Два года, а?»
Ну, я и не выдержал, разревелся. А потом взгромоздил его на кровать, и он тут же опять захрапел, а я пошел обратно в большую комнату и ревел, пока не успокоился.
Потом убрал там все, вынес бутылки. Вырвало его к тому же прямо на ковер. Не очень сильно, но след все-таки остался.
Я был рад, что Курт в тот день пришел из школы позже меня. Не потому, что родитель был пьяный, это-то он, конечно, все равно бы узнал, да это и вообще неважно. Но увидеть его такого, когда он совсем раскис и нюни распустил, — это уж слишком. Он был прямо как малое дитя. И думай что хочешь, пусть я, по-твоему, ненормальный, но я считаю, что он тут был не виноват. У него просто сил не хватило, не вынес, когда услышал по телевидению про эти два года. Да черт возьми-то! Если б он чего особенного требовал, а то всего-навсего хотел класть свои кирпичи.
Когда мама пришла домой, я ей все рассказал, но она отреагировала как-то очень спокойно. Сказала, что она так и знала, что он что-нибудь такое вытворит, потому что видела, какой он был накануне вечером. И велела нам делать вид, будто ничего не произошло.
На всякий случай я ухватил Курта за шкирку и слегка тряханул — дал понять, что мы вполне обойдемся без его глупых шуточек, когда родитель продерет глаза. А то бы он на следующее утро, чего доброго, положил в хлебницу коробочку таблеток от головной боли или еще какую-нибудь дурость отмочил, с него станется. Впрочем, теперь он стал ничего, лучше, чем раньше, мой братец. Он как-то сильно повзрослел за это время, да и я тоже. Я думаю, это благодаря маме, хотя причиной-то был, конечно, родитель. Потому что мама у нас такая молодчина! Но знаешь, странно, чаще всего до нас с Куртом с большим опозданием доходило, почему она поступила так, а не иначе. И всегда оказывалось, что поступила она так ради него. Чтобы помочь ему, чтобы дать ему почувствовать, что он не зря живет на свете, хоть другие в нем, может, сейчас и не нуждаются.
Непонятно тебе? Ну, тут уж ничего не поделаешь. Так уж оно есть. Тебе все равно не объяснишь, твой-то отец, он ведь не безработный».
Тут я застопорился. Не мог вспомнить, на чем я остановился, потому что я уже ушел в сторону и начал говорить про маму и про все про это. Когда просто рассказываешь о каких-то событиях, которые с тобой происходили, это, в общем-то, достаточно легко. Гораздо труднее, когда пытаешься рассказать, что в это время происходило у тебя внутри. Что ты сам по этому поводу думаешь и так далее. Поэтому я и застопорился. И еще потому, что Петер не понимал, о чем я ему толкую.
Он сидел и отламывал кусочки от какой-то палки, отламывал и отламывал, мелкие-мелкие кусочки, и бросал их на землю. И мы с ним оба молчали довольно долго. Мне хотелось домой, но в то же время хотелось остаться, чтобы досказать все-таки эту историю.
«Ну, а потом? — спросил наконец Петер. — Что было дальше, когда он протрезвился?»
«Дальше-то? Мама в ту ночь спала в большой комнате. Потому что пахло от него, честно говоря, не очень приятно. И, когда мы на следующее утро убегали в школу, он еще не вставал. Мама, кстати, перед уходом на работу оставила нам на столе завтрак, хотя вообще она никогда этого не делала. Но, может, у нее просто времени было больше в то утро. Во всяком случае, мы с Куртом были довольны.
Когда мы вернулись из школы, я и Курт, — в тот день мы с ним кончили в одно время, — родитель стоял возле одного из недокрашенных окон и что-то такое делал. Мы прошли как раз мимо него, когда входили в дом, и мы сразу обратили внимание, что работает он как-то не по-настоящему. Просто ковыряется с этим окном, потому что чувствует себя виноватым. И, уж само собой, он при этом не насвистывал. Да и по лицу его было совершенно ясно, что ему не до свиста. Хотя, конечно, очень может быть, что у него просто башка трещала после вчерашнего впрыскивания.
Но, мне кажется, главное было все-таки то, что он чувствовал себя неловко. Во всяком случае, когда он здоровался с нами, то отвел глаза в сторону и голос у него был непривычно тихий. А мы с Куртом, как ты, вероятно, догадываешься, тоже не бросились ему на шею с радостными криками. Буркнули «здравствуй» и пошли к себе. А немного погодя оба опять ушли. Не знаю, куда отправился Курт, а я лично пошел к Каю Ове. И просидел у него до самого ужина.
За столом мы почти все время молчали. А потом я и Курт ушли в кино. Нам казалось, что, наверно, лучше, если нас не будет дома. То есть мы думали, может, предки захотят друг с другом побеседовать.
На следующий день все вроде стало опять как обычно. Ну, и мы больше не заводили об этом разговор».
Глава 8
«Прошло несколько дней, и он опять взялся за окна, но дело почти не двигалось. Так, повозится немножко, покопошится и бросит. Все время хватался то за одно, то за другое, но до копна ничего не доводил. Начал, например, красить нашу с Куртом комнату, думал, я уверен, сделать нам приятное. Но даже не спросил нас, чего мы хотим, и цвет выбрал какой-то немыслимо занудный. А потом так и не кончил. Выкрасил последнюю стенку до половины — и больше ни с места, а спросишь его, когда же он докрасит, обижается. И окна он, кстати сказать, тоже так и не довел до конца. Когда мы переезжали, последнее окно оставалось недокрашенным. Он, по-моему, никак не мог взять себя в руки. И не чувствовал больше радости, когда что-то делал.