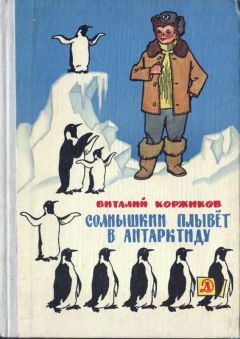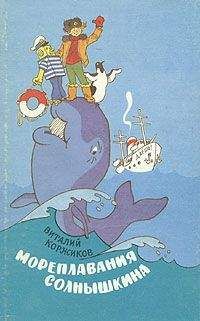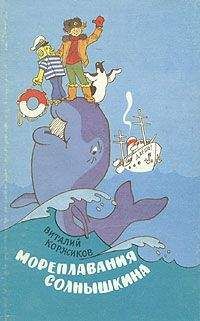Владислав Крапивин - Флаг-капитаны
Женщина слегка вздрогнула, приподняла подкрашенные брови и напряженно посмотрела на Сережу. Словно не поняла его, но очень старалась понять. Наконец она кивнула, странно моргнув при этом, и медленно показала на лестницу.
«Что с ними со всеми?» — еще раз подумал Сережа. Но главное, что Алексей Борисович был в редакции. Сережа двинулся к лестнице.
— В третьей комнате, — хрипловато сказала ему вслед женщина и закашлялась.
В коридоре второго этажа, как и внизу, стояла напряженная тишина.
Дверь в третью комнату была открыта, но вход загораживали спины неподвижно стоявших людей. Так бывает, когда идет большое собрание и всем участникам не хватило места. Сереже показалось, что сейчас из-за спин донесется голос выступающего. Но в комнате было тихо.
Он подошел, не очень надеясь что-нибудь рассмотреть и понять. Но кто-то оглянулся на него, кто-то вполголоса сказал:
— Пропустите мальчика…
И спины раздвинулись перед ним.
С дико нарастающей тревогой, ощущением непонятной, но большой беды Сережа пошел вперед среди молча расступавшихся людей…
Он сразу узнал Алексея Борисовича, хотя сейчас лицо у него было очень худым. Голова тяжело вдавилась затылком в подушку, а большой подбородок приподнялся и от этого казался еще более острым.
Боковая стенка гроба почти сплошь была закрыта цветами и зеленью. И сверху тоже были цветы. И если бы не белая, нелепая какая-то подушка, могло показаться, что Иванов упал навзничь в траву, от выстрела в упор…
Когда случается неожиданная и большая беда, человек падает в нее, как в пропасть. Все, что есть вокруг, становится расплывчатым, неважным, ненужным и пролетает мимо, не оставляя следа.
В Сереже словно отключился механизм, отсчитывающий время. Совершенно не знал он, прошла минута, или час, или три. Сережа порой встряхивался и замечал тогда кое-что вокруг. Один раз он обратил внимание, что полной тишины все-таки нет: шепотом Переговаривались люди, где-то очень глухо играла хмурая, тягучая музыка. Потом он увидел, как у гроба меняется почетный караул — четыре человека с черно-красными повязками на рукавах. Вот встали трое мужчин и девушка с повязкой на рукаве пушистого синего свитера. Девушка вдруг закрыла руками лицо и пошатнулась. Ее быстро подхватили под локти. Но она тряхнула головой, отняла от щек ладони и осталась стоять с мокрым окаменевшим лицом…
Вот такие отдельные вещи иногда замечал Сережа. А потом опять словно тонул в ощущении полного и непоправимого несчастья.
В этом несчастье была не только смерть одного человека. В нем крылась гибель отряда, потому что человек, на которого была главная надежда, лежал мертвый.
Время от времени Сережа спохватывался: как можно думать о своих делах, когда здесь такое горе? Но скоро мысли возвращались к «Эспаде». Смерть Иванова и судьба отряда сплетались в один клубок. И возникало чувство окончательного поражения. Такую безнадежность испытывает, наверно, командир, который, отступая, надеется на последний резерв, на гвардию, и вдруг узнает, что резерв разгромлен: лагерь сожжен и солдаты мертвы. Наступать не с кем, и отступать некуда…
Кто-то взял Сережу за плечо. То ли просто так, то ли чтобы опереться. Он оглянулся. Это была женщина, с которой Сережа разговорил внизу. Она смотрела на Сережу темными, очень глубокими глазами. Потом спросила медленным шепотом:
— Ты… был знаком с ним?
— Да, — прошептал Сережа.
И ему стало очень обидно, что обещал он Алексею Борисовичу зайти или позвонить, да так и не собрался. А теперь уж ничего не поделаешь.
— Я ведь не знал, — с раскаянием прошептал Сережа. — Я к нему по делу пришел, к живому…
Женщина не удивилась. Она тихо кашлянула и сказала:
— Многие не знали… Он работал до последнего дня, а лечиться все было некогда. Торопился книжку закончить. А что болеет, почти не говорил.
— Почему он умер?
— Сердце…
Люди задвигались, стали выходить, и Сережа понял, что ему тоже надо идти. В дверях он оглянулся. И только сейчас увидел на стене большой фотопортрет Иванова. Алексей Борисович улыбался знакомой-знакомой улыбкой, как тогда, на станции. Сережа вдруг подумал, что, может быть, последний раз видит живое лицо Алексея Борисовича. Он остановился, но его мягко подтолкнули, и пришлось выйти в коридор.
Женщина вышла вместе с ним.
— Ты поедешь на кладбище? — спросила она.
Сережа не знал, надо ли ехать. Но сейчас ему показалось, что если не поедет, то опять обманет Алексея Борисовича. Как тогда: обещал навестить и забыл.
— А можно? — спросил он,
— Да.
— А как ехать?
— Садись в автобус. В любой.
Сережа вышел на улицу. Автобусы стояли вереницей. Сережа забрался в самый дальний. Он приткнулся на заднем сиденье и стал смотреть в окно. Из дверей редакции выходила молчаливая толпа. Вынесли венки, потом крышку гроба. Ухнул и тягуче заиграл оркестр.
Автобус шел долго. Потом вереница машин остановилась, и люди пошли в распахнутые высокие ворота, мимо церкви, у которой был какой-то очень праздничный купол: синий с золотыми звездами. На высоком церковном крыльце сидели старухи в черных платках. Время от времени они крестились. На нижней ступеньке крыльца примостилась серая кошка. Она умывалась и равнодушно глядела на проходивших.
Сережа впервые оказался на кладбище. Вслед за незнакомыми людьми он шел по раскисшей дороге, потом пробирался среди могильных оградок, решетчатых обелисков со звездами и крестами. Почти всюду лежал еще серый снег. А там, где он сошел, виднелись прошлогодние листья и поблекшие стружки искусственных цветов.
Наконец подошли к могиле. Она Сереже показалась похожей на окоп с двумя глинистыми брустверами по краям.
На краю могилы поставили гроб. Сережа не решился подойти близко.
Стали говорить разные люди. И говорили в общем-то одно и то же: о том, какой хороший человек был Иванов и как много он работал. И что его не забудут. Это была правда. По крайней мере Сережа никогда не забудет, хотя видел Алексея Борисовича один раз в жизни. Ну и что же, что один раз? Иных видишь каждый день, а лучше бы не видеть совсем…
Сережа тоже мог бы сказать, что за человек был журналист Иванов…
Опять заиграл оркестр. И Сережа заметил музыкантов. На них были серые шинели, шапки со звездами и голубые погоны. Они играли марш. Не обычный похоронный марш, изматывающий душу. Это была сдержанная, суховатая какая-то музыка. Сквозь негромкие голоса труб иногда пробивалась четкая, почти маршевая дробь барабана.
Рядом с Сережей стоял грузный мужчина в плаще и помятой шляпе. Он посмотрел по сторонам, словно искал кого-то, заметил Сережу, отрывисто сказал:
— Теперь что? Играй, не играй… Теперь все равно…
— А почему такой оркестр? — спросил Сережа. — Разве Алексей Борисович был военный?
— Нет, — откликнулся мужчина. — Но он писал о них много. Особенно о летчиках. Они его помнят.
Снова коротко простучал барабан, и Сережа вспомнил о барабанщиках «Эспады». И опять ему стало неловко перед собой, что думает он об отряде, а не об Алексее Борисовиче. Но ничего он не мог поделать.
Через спины тех, кто стоял впереди, Сережа увидел, как замелькали лопаты. Кое-кто стал расходиться. Пошел и Сережа. Ему навстречу дул мягкий ветер. Медленно качались верхушки темных, почти черных сосен. А небо над ними было серое.
Сережа вышел с кладбища. Сесть в автобус он не решился: мало ли куда они поедут.
Он подумал, что отыщет остановку любого троллейбуса и доберется куда-нибудь ближе к центру. А там до дома недалеко.
Он пошел по краю асфальтовой дороги. Шел и смотрел на свои ботинки. К левому ботинку прилип коричневый листик с тремя отростками, похожий на отпечаток птичьей лапы. Это был мертвый листок. Сережа тряхнул ногой, но листок держался крепко. Пожухлый, прошлогодний.
Неужели когда-нибудь снова будет летнее небо с желтыми облаками, живая трава, лиловые метелки иван-чая, пунцовые лампочки клевера и звон шмелей?
А если и будет, никогда не пойдут по этой траве загорелые барабанщики «Эспады»…
Сережа отчетливо вспомнил вечер на реке, огоньки по берегам, стук мотора и густой запах трав, пришедший с лугов. Будто вот сию минуту стоял Сережа на палубе, прижимался коленями к металлическим прутьям поручней, а рядом был Алексей Борисович и держал на Сережином плече крепкую ладонь.
И как ответ на это воспоминание легла ему на плечо тяжелая рука.
Сережа вздрогнул и обернулся.
Он увидел узкое, жесткое лицо и печальные, не подходящие для такого лица глаза.
— Узнал? — спросил мужчина.
— Да, — сказал Сережа. — Вы тогда приходили в школу.
— Верно. Это я писал о тебе заметку.