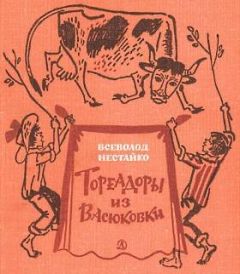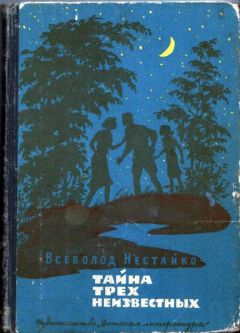Всеволод Нестайко - Необычайные приключения Робинзона Кукурузо
«Неужели это у меня нет сил крикнуть?»
— Ява! — кричу, как говорят, во всё горло.
Не отзывается.
Захожу во двор. Заглядываю в хату. Потом в сад, на огород, туда-сюда. Явы нет нигде. И вообще никого. Дед Варава, наверно, повел Яришку, сестричку Явину, в детсад. А где же Ява? Неужели пошел на экзамен? Без меня? Не может быть!
— Ява! Ява! Ява! Ява! Ява!…
Накричавшись до хрипоты и заглянув во дворе в самые глухие закутки, я побежал в школу.
«Может, он думает, что я сплю, решил разведать обстановку — еще же рано!»
Но и возле школы Явы не было. Все были, весь класс (вот тебе и рано!), все, кроме Явы.
Я метнулся назад.
Я бегал по селу. Зигзагами. Из одного конца в другой.
— Явы не видели? Не видели Явы? Ява Рень не проходил тут? — отчаянно спрашивал всех, кого встречал. Но никто не видел, никто.
Я вытягивал шею, заглядывая через плетни и заборы, и мне казалось, что она стала длинной, как у гусака.
Я подбежал к школе тогда, когда баба Маруся уже ходила по двору, звонила и, словно не доверяя колокольчику, выкрикивала:
— Звонок! Звонок! Экзамены начались! Начались экзамены! Звонок!
Я бросился к ней:
— Ой, бабушка! Не звоните еще минуточку! Не звоните! Явы нигде нет! Только одну минуточку!
Баба Маруся сокрушенно покачала головой и как-то виновато сказала:
— Не могу, милый! Уже позвонила. Поздно. Если бы раньше, сыночек. Куда же это он запропал? Вот беда! Ну, беги в класс, а то и ты не попадешь.
Пришлось идти.
В школе торжественно и празднично, как во время выборов (у нас и агитпункт, и избирательный участок всегда в школе). В коридорах постелены дорожки, на окнах цветы, стол в классе покрыт красной китайкой. Даже плакат висит в вестибюле: «Добро пожаловать!». Только музыка не играет и не работает буфет с пивом, как во время выборов.
Девочки в белых фартучках, мальчики непривычно чистые и причесанные.
Заходит Галина Сидоровна, с хорошей прической, в шелковом платье — не учительница, а киноартистка. За ней движется Николай Иванович, учитель географии. Он у нас на экзамене ассистент.
Галина Сидоровна обводит взглядом класс, хмурится и спрашивает:
— А где Рень?
Я вскакиваю с места:
— Нет нигде… Не знаю… всё село оббегал… Может, подождем немного?
Галина Сидоровна еще сильнее хмурит брови:
— Задерживать экзамен нельзя. Никто нам этого не позволит.
Она стала у доски, сжимает руки — словно сейчас будет петь (видно, тоже волнуется) — и говорит:
— На первой странице каждый напишите: «Экзаменационный диктант по украинскому языку ученика (или ученицы) пятого класса…» и свою фамилию.
Мы наклоняем головы — пишем.
Экзамен начался. Ученики сопят. Перья скрипят.
Я пишу механически, даже не думая, что пишу. И мне совсем не страшно, я совсем не думаю об экзамене. Я думаю о Яве. Где он? Что с ним? Не прийти на экзамен! На первый в жизни экзамен! Это просто не укладывается в голове! Даже если твоя мама депутат… Это безумие. Он не мог этого сделать просто так. Что-то случилось… Может, что-то непоправимое?.. Но — что? Что? Вчера мы же виделись, и всё было хорошо. Расстались поздно вечером, когда пошли спать. Договорились, что я с утра зайду, чтобы идти на экзамен. «Может, он уже и неживой?» — холодею я.
Диктант закончен.
— Теперь внимательно проверьте и сдавайте,— нежно-нежно, как никогда, говорит Галина Сидоровна и улыбается нам ободряюще — поддерживает.
Сопят ученики, носами в диктант уткнувшись,— проверяют. Даже пот на лбах выступил от напряжения.
А у меня в глазах буквы прыгают, рассыпаются во все стороны — не прочту. Не могу.
Вот уже поднялся из-за парты Карафолька, понёс. Первый. Выскочка!
Вон уже и Мациевский, и Гребенючка потянулись. А я еще и до половины не дополз.
И вдруг двери распахнулись и в класс влетел Ява.
Я даже подскочил: живой!
Живой-то, но — мамочки! — как у него вид! Задыхающийся, взлохмаченный, мокрый, весь в грязи с головы до ног. Следом за ним в класс вкатился такой же забрызганный Собакевич.
Галина Сидоровна покачнулась и едва не упала.
— Что это значит?
Ява молчал, опустив голову. И Собакевич не гавкал, как в прошлый раз, не зарычал даже, а поджал хвост и спрятался за Яву.
— У тебя что-то случилось? Что произошло? Дома?
Ява молчал.
— Где ты был?
Ява наконец разжал губы:
— В плавнях.
— Что? В плавнях?! Что ты там делал?
Ява опустил голову еще ниже и тихо сказал:
— Рыбачил.
Мне показалось, что внутри у Галины Сидоровны произошёл взрыв. И по всему классу полетели осколки.
— Что?! Что?! Вместо экзамена ты пошел рыбачить?! Ну… Ну, знаешь, это уже слишком! С-лиш-ком! Это просто… просто возмутительно! Так вот — сдавать экзамен будешь осенью! Как двоечник. Считай, что ты получил двойку! Переэкзаменовка у тебя! Будешь теперь целое лето готовиться. Это тебе наука за все твои художества. Иди! До свидания!
Еще какое-то время Ява стоял, не веря, что это случилось. Он был такой маленький-маленький и жалкий.
Эх ты, «мама — депутат»! Эх вы, «инстанции, что требуют пятерок»!
Я видел: еще миг — и Ява заплачет… У него уже закипали слёзы на глазах. Но вы не знаете, какой он гордый. Разве он допустит, чтобы кто-то увидел, как он плачет?! Ява крутанулся на месте и стремглав выбежал из класса. Верный Собакевич — за ним.
— Кто сдал работу, может идти,— ледяным голосом сказала Галина Сидоровна. Но даже если бы она и не сказала этого — я не остался бы в классе, клянусь! Побежал бы за Явой.
Не думая даже дочитывать диктант, я бросил его на стол и выскочил за дверь.
Однако Явы я уже не увидел. Я бросился в одну сторону, в другую — Ява исчез, как пузырь на воде.
И снова я бегал по селу, вытянув шею, и заглядывая всюду. Но напрасно. Словно раненный птенец, он забился, наверно, где-то в кусты и там в одиночестве кружками, прихлёбывая, пил своё горе. Может, и плакал, кто знает… А в такие минуты не хочется видеть никого на свете.
И вы не думайте — я искал его не для того, чтобы утешить, посочувствовать (разве утешишь человека в такой момент!). Я только хотел, чтобы он видел, чтобы он знал, что я разделяю его горе и готов сделать для него всё. Я бы и слова не сказал ему, только посмотрел бы в глаза, и он бы всё понял.
Еще совсем недавно я с досадой думал о своих родителях, что они не депутаты и что это может дорого стоить мне. И вдруг — о коварная судьба людская! — не я, а Ява, депутатский сын, заработал переэкзаменовку. И где же справедливость? Ничего не разберешь в этом мире.
И еще я ломал голову себе: что же произошло? Почему он очутился в плавнях? Это чепуха, что он рыбачил,— никогда в жизни! Он бы ни за что бы не пошел на рыбалку без меня. Не поверю, хоть режьте! Наверно, это связано с этими шпионскими делами. Но когда он успел? Пошел с вечера? Без меня? Ничего не понимаю!
Долго я бродил по селу. И на речку ходил, и на выгон ходил, и на кладбище даже заглянул (мы там когда-то чижей ловили).
Потом подумал: «Может, он уже дома — обед скоро». Подошёл, выглядываю из-за плетня осторожненько (не хочется деду на глаза попадаться, чтобы не расспрашивал). Но не видно что-то Явы.
По соседству, за высоким дощатым забором — усадьба Кныша. Да вон и сам он — сидит на крыше новой, недостроенной еще хаты, кладет черепицу.
Вышел во двор дед Варава — с ведром, к колодцу.
Увидел деда Вараву Кныш, громко поприветствовал сверху:
— Здравствуйте, дедушка!
— Здорово! — невесело пробурчал дед.
Тогда Кныш неожиданно, с притворным сочувствием:
— Я слышал, у вас неприятность большая, мальчик ваш экзамен в школе завалил. Один на всё село. Вот же, ей-богу!
Угрюмо молчит дед Варава. Молча крутит ворот, вытягивая из колодца ведро.
— Жалко им было, чтобы мальчишка перешел в шестой класс,— продолжает дальше Кныш.— И это специально. Знают же, что мать передовик, депутат, да ещё и в заграничной командировке,— так чтобы насолить… Вот же, ей-богу! Ой!
Кныш как-то неловко повернулся, на черепице сидя, и едва не поехал вниз по крыше.
Я с ненавистью смотрю на него и, сжав зубы, шепчу: «Упади! Упади! Упади!»
Дед Варава молча выслушал Кныша, вытащил ведро, не говоря ни слова, похромал в хату.
Кныш начал умащиваться удобнее и вдруг всё-таки поскользнулся, поскользнулся, сорвался, прогрохотал по крыше и — хлоп! — на землю. Будто подействовало мое заклятие.
Я радостно захихикал.
Кныш, кряхтя, поднялся.
В это время из хаты (из старой, что рядом с новой) вышла Кнышиха.
— О, ты уже слез? — удивилась.
— Слез, слез! Чтобы ты так всю жизнь слезала! — сердито прохрипел Кныш, потирая отбитый зад.
Тут меня мама увидела и позвала обедать.
После обеда до самых сумерек ходил я по селу как неприкаянный. Места себя не находил.
Опустился на землю синий вечер. Засветились в хатах окна, прочерчивая черный мрак садов.