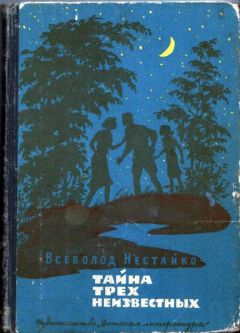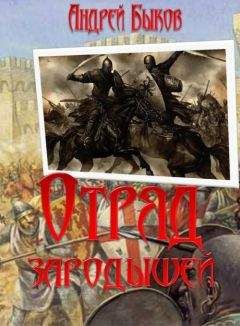Всеволод Нестайко - Тайна трех неизвестных
— Правильно! — Подхватил племянник и начал снимать свою белую нейлоновую рубашку.
Из дома вышла жена племянника с пластмассовыми плечиками в руках.
— Что это вы… — Начала она.
Но племянник перебил ее.
— Цыц! Давай сюда! — И, заговорщически приставив ладонь ко рту, он таинственно произнес мне: — Пустим слух, что это была… рубашка! А?
И только тут я понял, что они смеются.
Ой! Да ведь действительно была рубашка! Обыкновенная нейлоновая рубашка на плечиках, что сушилась на той вишне в конце сада. Постирали перед свадьбой, чтобы чистенькую утром одеть. Ветер раскачивал ее, размахивал рукавами… А я… Ах ты.
Первый начал смеяться Антончик. Сначала неуверенно, короткими очередями:
— Хи-хи… Хи-хи… Хи-хи… — Потом, почувствовав поддержку, грянул раскатисто, полной грудью: — Га-га-га-га-га!
И ребята, те же ребята, что вчера только рты разевали и были, так сказать, в нокауте, вверх копытами лежали, те же ребята хохотали сейчас надо мной, только что по земле не катались. И Гребенючка пискляво хихикала. А Павлуша смеялся, глядя на меня с горьким сочувствием, как смотрят на пьяного калеку. И жена племянника (добрая, видно, душа) смотрела на меня с жалостью.
Они жалела меня.
Они думали, что я переживаю, что произошел такой конфуз, как говорит дед Саливон.
Люди добрые!
Ей-богу, я не переживаю!
Я рад, очень рад, что это не призрак был, а рубашка. Да это же просто великолепно. Да я просто как на свет заново родился. До лампочки мне теперь поп Гога, бабка Мокрина и вся их братия. Не боюсь я их, потому что опять стою обеими ногами на твердом материалистическом грунте.
И я смеюсь, хохочу вместе с ними. Но сам чувствую, что слишком громко, слишком уж сильно хохочу. И они мне не верят.
— Ну, расскажи, расскажи, как же вы это устроили? — Отсмеявшись, наконец спросил дед Саливон.
— Да! — Махнул я рукой: не хотелось не то что вспоминать — думать об этом.
— Ну!
— Да ну! — Не поддавался я.
— Вот ведь упрямый! Давай ты! — Кивнул он Павлуше и, обращаясь к племяннику и его жене, сказал — Это такие хлопцы! Всегда как что-нибудь такое выкинут, шелегейдики, что живот со смеху надорвешь. Специалисты! Ну!
Павлуша пожал плечами.
— Ну что? И тебя просить надо? — Поморщился дед.
— А я здесь ни при чем, — хмыкнул Павлуша.
— Как? — Удивился дед Саливон. — Разве вы не вместе?
— Не-а! — Сказал Павлуша, покраснев, потом повернулся и пошел прочь.
— Вот дела! Что случилось то? Тю! — Даже растерялся дед Саливон.
— Они поссорились! Совсем! Уже не дружат! — Выскочил Антончик.
— Э-э. Не годится. Что же это вы? Такие друзья были. Нехорошо как! — Протянул дед Саливон.
Тут уже я покраснел, отвернулся и тоже пошел прочь Только в противоположную от Павлуши сторону. Через кладбище, туда, в поле, где только ветер, подальше от людей.
Ну, теперь все! Конец!
Если раньше, доказав Павлуше своими подвигами, что он променял меня, героя, на какое-то чучело в юбке, я мог еще простить ему измену и помириться, то теперь уже нет. Потому что он при всех, так сказать, официально отрекся от меня.
Все!
Порвалась наша дружба, как гнилая веревка.
Все!
Нет у меня больше друга.
Все!
Глава XII. Скука. Я гоню воспоминания. Мой верный друг — вороной. Солдаты. «Восьмерка»
Прошло несколько дней.
Всего три слова, три небольших словечка — «Прошло несколько дней». Написал — и не видно их. Будто и не было ничего. А как же они тяжело, как долго они шли, эти несколько дней! И долго, и скучно, и грустно, и тоскливо — как в тюрьме, в одиночной камере.
И как назло, погода снова испортилась. Дождь лил с утра до ночи. Нельзя было носа высунуть из хаты. Сядешь у окна, уставишься на лужи во дворе, и только слушаешь, как непрерывно барабанят по крыше капли дождя. И так тебе плохо, так тебе плохо, что и сказать нельзя. Словно весь этот дождь — сплошные слезы твои.
До чего дошел — учебники прошлогодние перечитывать стал.
А тут еще и мать сердце надрывает:
— Пошел бы хоть к Павлуше — не скучал бы так.
Она со своей работой да общественными обязанностями все время забывает, что мы поссорились навеки. А тут еще и папа. Душу выворачивает своей музыкой. Придет с работы, достанет скрипку и как начнет выпиливать жалобно — кажется, не по струнам, а по жилам смычком водит… Лучше бы он уже той скрипкой по голове меня треснул.
Пожалуй впервые в жизни я узнал по настоящему, что это за беспросветная штука — настоящее одиночество. Когда даже мыслью поделиться не с кем. И делать ничего не хочется, и читать не хочется, и играть не хочется, ничего не хочется…
Павлуше хорошо — сидит себе, наверно, и рисует какую-нибудь холеру…
А чего это я о нем думаю? Пусть хоть на голове стоит — мне то что! Мне до лампочки! Иуда! Предатель! Прислужник Гребенючкин!
А дождь идет… И капли барабанят непрерывно… И лужи уже всю землю скрыли, и, кажется, плывет дом среди волнистого бушующего моря. И нет тому морю ни конца ни края — безграничное и безлюдное оно, как во время всемирного потопа. И кажется, солнце уже никогда не проклюнется сквозь густые мутно-серые облака.
А в голову без спросу лезут воспоминания. Я гоню, выталкиваю их, но они все лезут и лезут…
Про робинзоновскую эпопею на необитаемом острове в плавнях, про то как заблудились в кукурузе, про незнакомца из тринадцатой квартиры, про киностудию, про подземелья Лавры, про тореадоров и бой с Контрибуцией, про ВХАТ с «Ревизором», про атомную бомбу на транзисторах и т. д. — и т. п.
И что бы я не вспомнил, всегда (хоть ты тресни!) мысли про Павлушу в голову лезут, все мои воспоминания с ним связанны обязательно. Словно у меня и не было своей личной жизни. А только совместная с ним. Будто сам я не целый человек, а только половинка. С одной ногой, одной рукой, половиной живота и половиной головы. А вторая нога, вторая рука, вторые пол-живота и пол-головы — Павлушины. Вот ведь, ей-богу!
Я уже себя даже по лбу кулаком бил, чтобы выбить те воспоминания, но напрасно.
«Это, наверное, оттого, что я все время сижу на месте, без действия, — наконец решил я. — Надо двигаться, надо действовать, что-то делать, и эти воспоминания сами выветрятся».
Я соскочил с подоконника и начал двигаться — быстро ходить по хате из угла в угол, сначала просто так, а потом размахивая руками. Дед Варава, который дремал на печи, открыл один глаз и спокойно спросил:
— Чесотка напала? Или укусил кто?
— Зарядку делаю, — соврал я. Не объяснять же, что я воспоминания из головы таким способом выгоняю.
И все же эти несколько дней прошли.
Однажды, проснувшись утром, я увидел, что дождя уже нет и сияет солнышко. Мне немного полегчало. Я вывел во двор велосипед, зажал на правой ноге штанину деревянной прищепкой для белья (я всегда так делаю, чтобы штанина между цепью и зубьями передачи не попадала), сел и поехал.
Чистое солнце купалось в грязных лужах и делало их чистыми. Я с разгона врезался в лужи, и они разлетались в разные стороны солнечными брызгами. Выехав за село я помчался полевой дорогой. Ветер свистел в ушах словно веселая песня без слов А потом неожиданно появились слова. Но это уже был не ветер. Это навстречу мне шли солдаты. Шли, дружно распевая бодрую маршевую песню:
Путь далек у нас с тобою,
Веселей, солдат, гляди!
Вьется знамя полковое,
Командиры впереди.
Солдаты, в путь, в путь, в путь!
А для тебя, родная,
Есть почта полевая.
Прощай, труба зовет,
Солдаты — в поход!
И после этих серьезных слов они вдруг запели на тот же мотив детское стихотворение, что учат в детских садах:
Наша Таня горько плачет,
Уронила в речку мячик.
Тише, Танечка, не плачь,
Эх, не утонет в речке мяч.
Солдаты, в путь, в путь, в путь!
А для тебя, родная,
Есть почта полевая,
Прощай, труба зовет,
Солдаты — в поход!
Я съехал на обочину и встал, пропуская их. Они все были очень молодые, эти солдаты, большинство из них, пожалуй, еще и не брились, и это детсадовское стихотворение было еще очень свежо в их памяти. И они так весело и дружно пели, что я почувствовал зависть. Хорошо, видимо, быть солдатом, идти так полем всем отрядом и петь.
Солдат, и вообще военных мы видели часто. Километров за пять от нас, за Дедовщиною, в лесу были военные лагеря, а дальше, в степи, — артиллерийский полигон. Уже который год в центре села возле сельмага на столбе под репродуктором висела доска с объявлением: