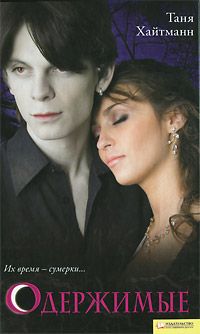Евгений Осокин - Тайна Зыбуна
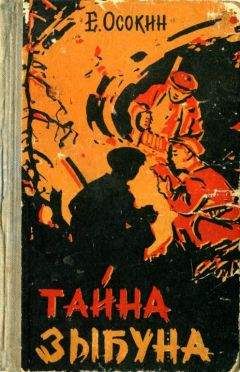
Обзор книги Евгений Осокин - Тайна Зыбуна
Тайна Зыбуна
БЕРЕСТЯНОЕ ПИСЬМО
У большого кедрового бора, где Зыбун выходит к берегу крутонравного таежного Чутыма, раскинулся плес. Десятками ручьев шлют болота свои ржавые воды на плес, но теплые донные ключи разбавляют черные, как кофе, потоки, прижимают их к берегам, гонят вниз. У плеса, на белопесчаном яру, в урожайные орехом, а значит, богатые и зверем годы, бывает, дымится много юрт.
Сейчас осталось две. В одной летом ночует старый охотник-селькуп Нюролька, в другой живет бабушка Эд.
— В юрте я ротилась, в юрте и помирать путу, — говорит она.
Поселение так и зовется — Юрты, или Юрты Жуванжи. Жуванжа — хант, охотник. Сын его, Санька, учится вместе с внуком Нюрольки, Хасаном, в Рыльске, за семьюдесятью плесами.
— А сколько это, деда, километров? — спросил как-то Хасан.
— А шайтан мерял, да сажень утопил.
Нынче ребята впервые за пять лет ученья проводят зимние каникулы дома.
Нюролька давно обещал взять Хасана с собой на зимнюю охоту и разбудил его наутро затемно. Кедрачи, облюбованные им, были далеко. Их так и звали: Дальние борики. Охотники сюда заглядывали редко.
Густая темень, разлохмаченная редкими проблесками невидимой луны, наползала со всех сторон; шла по пятам, забегала вперед, таилась в глухом сумраке еловых лап. Светлеющее небо рвало темень сверху, а снег — снизу, но она упорно гнездилась в подлеске, в тяжелой хвое. По ночной тайге Хасан шел впервые, и малейший шорох верхового предрассветного ветерка чудился вздохами зверя — то умирающего, то переводящего дыхание перед прыжком.
Хасан и сам не заметил, когда стянул с плеча ружье, взял его на руку. Его воображение дорисовывало то шалого медведя, то рысь, изготовившуюся к прыжку… «Вот она сжалась в комок, взметнулась!» Он, Хасан, на лету перехватит ее дуплетом. Дед зло обернется, чтобы ругнуть его за баловство с ружьем, но тут к ногам деда упадет кровожадный хищник. Мертвым. А Хасан спокойно будет перезаряжать ружье…
Но как ни вслушивается Хасан в дыхание тайги, слух ловит только два звука:
— Шшшш… Хруп! Шшшш… Хруп!
Это размеренно спокойно шагает дед.
Шли долго: урманы[1] перемежались болотцами, мелколесьем. Подволожные[2] лыжи с легким приятным похрустыванием шуршали слежавшимся за ночь снежком. Повизгивая от радости, впереди серым шаром катился Музгарка. Свежело; утренние туманные сумерки оседали быстро и бесследно. Вышли к прогалине, ровной, как стол.
— Смотри, деда, это ж, наверно, озеро!
— Озеро!
— И рыба в нем есть?
— А как же. Щучье озеро, да без рыбы!
— Деда, а где Пескарево озеро?
— А вот оно и есть.
— Так это же Щучье!
— Сейчас Щучье, а было Пескаревым. Потому голимый пескарь в нем жил. А вот лет тридцать назад невесть кто пустил в него щук — расплодились они, стервы, пожрали начисто пескаря. Теперь жрут друг друга.
Нюролька вынул из-за пояса топорик, срубил березку. Тонкие сучки обрубил, а один, потолще, оставил. Получился крюк.
— Это, деда, зачем?
— Рыбу удить.
— Ну уж!
Нюролька сделал у берега прорубь, поводил в ней березовым крюком и вытащил на лед садок. Внутри трепыхались десятка два щук-травянок.
— Ы-ы… Ты уже был здесь, — разочарованно протянул Хасан. — Деда, а это здесь нашли пулемет? — вдруг оживился он.
— Здесь. — Ссыпав травянок в лузан, Нюролька продолжал: — В восемнадцатом году наши тут одну шайку белых прижали. Награбили добра в Рыльске и бежали. Да главный только ихний полковник с проводником, немым Епишкой, и ушли на Зыбун…
— Деда, а это правда, что никто с Зыбуна не возвертался?
Нюролька крякнул, сплюнул. Не любили говорить о Зыбуне в Юртах.
Начались Дальние борики. Нюролька разыскал сложенные под кедром плашки, стал расставлять их, а Хасан присматривался к деду, помогал.
Управившись с плашками, перекусили и пошли промышлять с ружьями — вдвоем с одной собакой.
Вдруг «Фурр! Пуфф!» — будто старый обгорелый пень с грохотом и треском вырвался из промерзшей земли и черной тенью унесся в чащу столетних елей. Даже Музгарка на какое-то мгновение растерялся.
«Глухарь!»
Хасан от неожиданности обмер.
Дуплетом, с почти неуловимым на слух интервалом, бьет Нюролька. Музгарка взвизгнул, исчез в ельнике.
— У-ушел?
Нюролька не отвечает, молча поднимает краснобрового таежного красавца из-под самого носа Музгарки. Глухарь огромный, тяжелый. Хасан прячет его в лузан. Тяжесть добычи постоянно напоминает о себе, радует. И словно теплее, уютнее становится в просветлевшей тайге.
Музгарка уже лает на рябчиков — яростно, самозабвенно. От всей своей собачьей души.
— Деда, дай я! — просит Хасан. А сам уж обходит его. Пыхтя от азарта, он бежит на лай.
— Ишь, не успеет! — добродушно ворчит дед. — Никуда они теперича не денутся.
…Зимняя ночь подкрадывается незаметно, и едва засумерничало, Нюролька облюбовал сухостой, срубил его, раскряжевал. Подтесав кряжи, положил одно на клинья вдоль другого, а между ними насовал щепы, сушняку. Получилась нодья — зимний охотничий костер, который и тепла дает много и горит всю ночь. Спи без заботы.
— Похоже, бурелом будет, — говорит Нюролька.
— Да, — солидно подтверждает Хасан, стараясь догадаться почему.
Нюролька раскидал снег, развел огонь. Пока рябчики варились, устроил навес. Хасан нарубил пихтовых лап — спать на них тепло, удобно. А на прогалинке уже легкими струйками завихрялась пороша. Лес зашевелился.
Хасан торопливо дул на ложку и, обжигаясь, ел жадно; никогда суп не казался ему столь вкусным. Поели и легли на пихтовые лапы меж нодьей и навесом. От навеса тепло отражается и греет со всех сторон. Приятно, тепло у нодьи. А тайга уже заскрипела, зашуршала, запосвистывал ветер в шумливых вершинах. С глухим хрустом упал где-то сухостой. Поодаль тихо стонал старый кедр.
— Придавит нас, деда…
— Чудак-человек, аль я не вижу, куда наклон. И ветер.
— А если ветер переменится?
— Наклон.
Вдруг кедр всхлипнул как-то особенно жалобно.
— У-ух! — присвистнул Хасан.
Глубоко в снежный бугор врезался кедр и будто развалился надвое.
— Деда, а де… — Испуг и изумление перехватили дыхание Хасана: бугор осел, заворочался, ожил. Хочет крикнуть Хасан и не может. Бурая лохматая голова показалась из-под дерева. — А-а!
Вот-те на! Нюролька схватил ружье, взвел курок: левый ствол всегда заряжался пулей. Хасан тем временем пришел в себя, кубарем скатился под навес, схватил топорик.
А Музгарка уже «висел» на медвежьем заду. Громыхнул выстрел. Взревел косматый и, взбивая снежную пыль, завертелся на месте. Музгарка прыгал, захлебываясь от лая и визга.
«Неужели дробь? — пронеслось у Нюрольки. — Нет, левый… — Он достал новый патрон, зарядил. Медведь стоял на задних лапах, рыча тер ослепшие глаза. — Дробь и есть».
Выстрел. Косматый обмяк. Нюролька разломил ружье, вынул патроны: так и есть, с пулей оказался в правом стволе.
— Это ты баловал с ружьем?
— Я только патроны поглядел и обратно вставил.
— «Вставил»! Вот вставил бы тебе косматый, узнал бы, как патроны путать. Чего с топором-то?
— Я бы зарубил медведя, — искоса, с упрямством взглянул на деда внук.
— Ха-ха-ха! — схватился Нюролька за живот. Хотя ему и не смешно, но смех трухнувшего деда — просто нервная разрядка, и, он, скрывая дрожь в руках, хохочет так, что черная с проседью голова вздрагивает. Захохотал и Хасан. Нюролька умолк. Не годится старому таежнику скалить зубы с мальчишкой невесть над чем.
— Ладно, будет!
Закидали тушу снегом, завалили хвоей.
— Ой, сколько серы! — Хасан склонился над глубокой раной на стволе упавшего кедра. — Я, деда, сейчас, я немного отковырну. — И вдруг закричал: — Деда! Там письмо!
Нюролька подошел. Под янтарным наплывом, верно, слова. Писано на бересте, прибитой на затесе. Со временем письмо выцвело, а с краев затянулось. Только три полоски — в каждой по несколько букв — и сохранили смоляные слезы дерева.
«…овари… ковника… ли… яд… зер…
…ил тиф… олото… на… ел… ка… ел…
тр… ша…»
Хасан уже принялся было читать письмо, но Нюролька заторопился:
— Ладно, дома разберешь. Клади в лузан[3]. Спать надо.
Наутро Нюролька разрубил тушу медведя на части. Прихватив по ноше мяса, охотники отправились домой. «Зачем пропадать добру? — рассуждал старый охотник. — Нельзя зря губить зверя». Да и у Хасана уже пропал интерес к охоте. Не терпелось увидеть Саньку, расшифровать таинственное письмо. Едва вернулись — Хасана и след простыл.
— Знаешь, дед говорит, что письму этому не меньше сорока лет, — шептал почему-то Хасан, хотя Санька воспринял рассказ о нем с откровенной насмешкой.