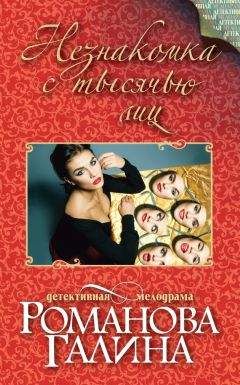Лев Рубинштейн - Тайна Староконюшенного переулка
— Ах, извините, маменька, я уже кончил. Мерси, маменька!
— А молоко? А булочки? О, Мишель, тебя узнать нельзя!
— Спасибо, маменька, я… я потом…
Мишель выскочил из-за стола без разрешения (в доме Кара-баиовых не дозволялось вставать из-за стола, пока маменька не скажет «ступай, господь с тобой!») и устремился в прихожую, где Топотун чистил барские сапоги.
— Послушай, — сказал ему на ухо Мишель, — нынче папенька будет сам обыскивать чулан Трофима, так что портфель надо немедля оттуда забрать.
Топотун подскочил.
— Как? Сами? Обыскивать?
— Беги сейчас к Трофиму за портфелем. Принеси его незаметно в детскую и спрячь за моей кроватью.
— За вашей кроватью это нельзя, вашбродь, — угрюмо сказал Топотун, — там Настасья-нянька разом ухватит. А ежели куда, так это… так это вовсе не туда…
Топотун вдруг ударил себя по лбу: «Не с главного входа, а с Неглинного! Там швейцар с бородой сидит!»
— Нашел место, вашбродь! Верное-преверное!
— Да говори ты толком! Я ничего не понимаю!
— В театр, вашбродь! В Малый театр! Туда никто не сунется!
— В театр, это каким же способом? — озадаченно спросил Мишель.
— Знаю, каким! Не извольте беспокоиться, сейчас меня Захар-дворецкий пошлёт за воском полы натирать, так я по дороге и забегу. Потом доложу вам, и всё будет хорошо…
Таким образом в середине дня, когда в низком чулане Трофима полковник Карабанов, упираясь головой в потолок, сурово глядел на портрет гвардии капитана, Мишка Топотун развязно вошёл в артистический подъезд Малого театра и сразу наткнулся на человека с очень странной наружностью.
На нём была длинная форменная одежда с галунами. Седая борода свисала у него почти до пояса, но ростом он был немногим больше Топотуна и походил на снежного деда, какого ребята строят зимой во дворах. И нос у него был длинный и красный, точь-в-точь как у снеговиков, и щёки толстые-претолстые.
— Тебе что надобно, юноша? — спросил он важно.
— Гликерию Познякову, актёрку, — не робея, отвечал Топотун.
Вдруг толстые щёки деда-снеговика упали так, что под скулами образовались провалы. Мишка с удивлением на него воззрился.
— Госпожа Познякова не актриса, а воспитанница, — возгласил дед с каким-то присвистом.
— Вот, вот мне бы её и повидать…
Щёки снеговика вдруг опять надулись дополна.
— Повидать? А ты кто сам, юноша, будешь? Небось из райка?
— Я вовсе из Староконюшенного переулка посыльный, — с достоинством отвечал Топотун, не сообразив, что значит «раёк».
Дед опять упрятал щёки обратно под скулы. Просто удивительно было, как он умудряется это проделывать так быстро.
— Мы воспитанниц не зовём, — просвистел он, — только артистов, и то вперёд подавайте вашу карточку с надписью, и ежели они захочут вас принять.
— Да ведь они сами мне приказывали… — начал Топотун. Щёки надулись.
— Не знаю, что приказывали. Не знаю. Извольте карточку с надписью.
— Да нет у меня карточки!
— А нет, так жди, юноша, может статься, они пройдут. Щёки завалились.
— А может статься, что и нет. Не знаю. Щёки надулись.
Топотун маленько приуныл. Хотя Захар-дворецкий и привык к тому, что Мишка ходит за воском полдня, но всё же нельзя было сидеть в подъезде Малого театра до вечера. Куда тут денешься?
Но Топотуну всегда везло, повезло и на этот раз. В подъезд вошёл маленький толстый старичок с гладким лицом. В руках у него была большая палка. На вид ему было лет не меньше семидесяти, но ни усов, ни бороды он не носил. На этом полном лице светились серые с поволокой, совсем ещё молодые и добрые глаза.
Швейцар надул щёки так, что они стали похожи на воздушные шары, подскочил к вошедшему и стал стаскивать с него шубу.
— Спасибо, Авдей Григорьич, — сказал вошедший, — только не свали меня с ног. Меня никто не спрашивал?
— Никак нет-с, — просвистел швейцар.
— А это кто?
Щёки Авдея Григорьича сразу провалились.
— Госпожу Познякову просят посыльный со Староконюшенного переулка.
— Что же ты его не пустил, ведь она в театре?
— Они небось из райка, Михайло Семёныч?
— Разве? Послушай, мальчик, ты часто в нашем театре бываешь?
— В жисть не бывал, — отвечал Топотун, — у меня дело вовсе не театральное.
— Ну вот видишь, Авдей Григорьич… Ступай со мной, мальчуган, я тебя проведу. Не робей, у нас завелись строгости. Многие желают выражать свой восторг актёрам, приходят днём и мешают репетировать. Так тебе Познякову?..
Топотуну никогда не приходило в голову, что внутри этого приземистого, жёлтого здания, похожего на громоздкую колымагу, столько коридоров, лестниц, каморок и переходов. И отовсюду слышны какие-то стуки, шаги, разговоры, восклицания, скрип и топот.
— Эй, сторонись, сторонись!
Двое рабочих протащили щит с наклеенными на нём обоями и нарисованным окном. За ним ещё один нёс на голове кресло ножками вверх. Потом пробежал сухонький человек в очках, с толстой книгой под мышкой и масляной лампочкой в руке.
— Добрый день, Михайло Семёныч!
— Моё почтение, Михайло Семёныч!
— Рад видеть, — отвечал Михайло Семёныч, подталкивая Топотуна под руку, — рад видеть, рад, рад, рад…
Этого Михайло Семёныча, по-видимому, знал весь театр, потому что все встречные — от седых актёров до рабочих, в смазных сапогах — первые приветствовали Михайло Семёныча, а молоденькие ученицы чинно приседали и опускали головки.
— Вниз по лестнице, осторожно, не упади, — приговаривал Михайло Семёныч.
И вдруг, по левой руке, открылось большое пустое пространство. Слева стоял оклеенный пёстрыми обоями щит, изображавший стену, рядом с ним ненастоящее зеркало, сделанное из серебряной фольги, перед ним колченогие стол и стул. Настоящая стена из грубых кирпичей рисовалась вдали, за зеркалом. А справа темнел огромный пустой зрительный зал, наполненный креслами. Ввысь уходили разукрашенные золотом ярусы, и где-то под самым потолком, в том самом «райке», который в наши дни называется балконом 3-го яруса, светил фонарик и перекликались уборщики.
Топотуну даже страшно стало стоять перед этим громадным, холодным, пустым и тёмным, как ночное море, провалом.
— Вот сцена, — сказал над его ухом Михайло Семёныч, — не видал никогда?
По сцене быстро ходил молодой человек в длинной красной рубахе, подпоясанной цветным пояском, и в синих шароварах, заправленных в блестящие сапоги. В руках он держал щётку для подметания пола.
Спиной к Топотуну стояло высокое кресло, а подле него — столик, за которым сгорбился человечек в очках. При свете масляной лампочки он листал толстую книгу. В кресле сидел кто-то, кого Топотуп видеть не мог. Он слышал только голос:
— Вы всё ещё суетитесь на сцене, а между тем никакой нужды в этом нет. Мы уже с вами знаем, что Тишка — парень деловой, и в будущем такой же мошенник, как его хозяева. Он не станет в одиночестве бегать по комнате со щёткой. Он всерьёз доход свой считает. Давайте повторим вот отсюда…
Человечек возле лампочки подал голос:
— «Полтина серебром — это нынче Лазарь…»
Молодой человек в красной рубашке обнял щётку, полез в карман и вытащил воображаемые монеты.
— «Полтина серебром — это нынче Лазарь дал. Да намедни, как с колокольни упал, Аграфена Кондратьевна гривенник дали, да четвертак в орлянку выиграл…»
— Не так гладенько, — раздалось с кресла, — а то ведь как по книге заучили! «Четвертак в орлянку выиграл…» Переберите монеты…
— «Да третёвось хозяин забыл на прилавке целковый. Эвось, что денег-то!»
— Ишь ты, — прошептал Топотун, — хозяин забыл, а он взял? Хорош!
— Тут хороших нет, — со смешком сказал Михаил Семёнович, — это комедия Островского «Своп люди — сочтёмся», про купцов-мошенников.
— Ещё раз! — раздался голос с кресла. — Начнём с полтины серебром.
— «Полтина серебром — это нынче Лазарь дал…»
— Вот так мы работаем, дружок, — промолвил Михаил Семёнович. — Да ещё по два десятка раз одно и то же. Это тяжёлый труд. А вечером спектакль. А вот и Луша! Лушенька, к тебе посыльный пришёл… Прощайте.
Михаил Семёнович скрылся, а Луша широко раскрыла глаза, стараясь вспомнить, где она видела Мишкин курносый нос, и наконец засмеялась.
— Ты мальчик с Новинского! Что у тебя с портфелем?
— Плохо, тётя Луша, — серьёзно отвечал Топотун. — Нельзя портфель дома держать. Хозяин ужасти какой сердитый!
— А он видел?
— Пока нет. Я к вам и пришёл, как вы сказывали…
— Да что в этом портфеле?
Мишка шмыгнул носом.
— Звон, — сказал он шёпотом.
— Звон?.. Ах, поняла — «Колокол»…
Тётя Луша подперла правой рукой подбородок, а левой правую руку под локоть и наклонила голову набок.
— В театре держать его невозможно, — сказала она. Мишка уныло опустил голову.