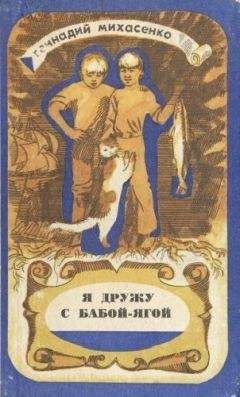Любовь Воронкова - Лихие дни
Двери в избу были открыты настежь. Солдаты с набитыми сумками выходили на улицу и, грохоча сапогами, сбегали по намерзшим ступенькам крыльца. Маринка остановилась в сенях, пережидая, пока они пройдут. На улице шумели заведенные машины; они кружились и разворачивались возле дороги. И, покрывая их шум, где-то совсем близко за отрадинским лесом бухали тяжелые удары и рокотал пулемет. Дождавшись, пока прошел последний солдат, Маринка шмыгнула в избу. Этот последний был толстый ефрейтор. Ефрейтор немножко отстал от других — он на ходу напяливал на себя старинный меховой бабушкин салоп.
В избе было тихо.
— Ушли? — спросила Маринка.
Бабушка сидела, подпершись рукой под локоть, и молча плакала. Мать поглядела на Маринку сухими блестящими глазами и тоже ничего не ответила.
Маринка вошла в горницу. Дым еще висел под потолком. Белые обои, которые бабушка так берегла — бывало пальцем не даст до стены дотронуться, — эти обои были покрыты пятнами, изорваны гвоздями. Карточки, украшавшие стены, были сорваны и валялись в углу: они мешали немцам развешивать по стенам свою амуницию. Ящики из комода, опустошенные до дна, стояли среди пола, грязного, затоптанного дочерна.
— Мамушка, чего же теперь делать будем? — тихо спросила Маринка.
Мать провела рукой по своим глазам и как бы встряхнулась.
— Что делать? А вот сейчас соберем на стол да будем обедать. Ничего! Ограбили нас, обобрали… А мы возьмем да еще наживем! Правда, дочка? Изба у нас цела, корова цела. А это самое главное — изба да корова. В избе от холода не замерзнем, а с коровой с голоду не умрем. Не тужите! Доставай щи, мамаша; вот и дед наш обедать идет.
Дедушка вошел в избу и молча, ни на кого не глядя, стал раздеваться.
— Дедушка, ты есть хочешь? — спросила Маринка.
Дед не ответил.
Все насторожились: что там еще случилось такое, чем так расстроен дед, что даже с Маринкой не разговаривает?
А дед отошел к окну и, отвернувшись ото всех, уставился глазами на седые морозные узоры.
— Дед, ты что? — с затаенной тревогой спросила бабушка.
— Да ничего, — хрипло ответил он.
— Ну, говори! Что случилось?
— Ступай во двор, посмотри… там…
Дед не договорил и махнул рукой. Бабушка выбежала из избы. И тут ее крик раздался по всему двору:
— Батюшки! Кровные! Корову зарезали! Корову! Ох, что… же вы с нами делаете, что же вы делаете!
В ответ на бабушкины крики раздались смех и ругань. Но что там случилось? Смех вдруг прекратился, кто-то удивленно вскрикнул, и ругань поднялась снова, но уже бурная, злая, угрожающая. Бабушка вошла в избу белая, как холст. За ней с револьверами в руках, не переставая кричать и ругаться, ворвались немцы.
— Пан? Где пан?
Они окружили деда; один схватил его за ворот рубахи и рванул так, что дед пошатнулся. Другой, стиснув зубы, ударил его по лицу. Дед охнул. Среди криков и немецкой ругани Маринка поняла только одно слово: «Партизан!»
И сейчас же ей вспомнились те двое, лежащие на снегу возле речки. Сердце ее больно сжалось.
— Беда, — прошептала она, — беда пришла к нам!
И, быстро взобравшись на печь, она зажала уши и уткнулась лицом в подушку, чтоб ничего не видеть и не слышать больше.
Ганя в Корешках
Ганя погонял лошадь. Немец с недовольной миной насвистывал что-то, в санях позвякивала крышка бидона.
А за лесом непрерывно грохотала канонада.
«Мины рвут… — думал Ганя. — Ну, вот этот удар — мина. А вот это? Это же пулемет! При чем же тут мины? — И снова в его удрученное сердце проникла радость. — Врут они, это наши бьются!»
Выехав на корешковскую гору, Ганя увидел какое-то необычайно тревожное движение в Корешках и в Отраде. Гудели и фыркали машины, разворачивались, загромождая улицу. Некоторые стояли неподвижно, и под моторами у них пылали костры — видно, застыло горючее и машина не шла. А по отрадинской дороге, по которой пришли к ним немцы, снова сплошной очередью двигались немецкие войска — фургоны, конница, мотоциклы… Но двигались уже обратно, туда, откуда пришли.
«Неужели отступают? — Ганя боялся поверить этому, боялся обрадоваться понапрасну. — Где там отступают! — возражал он сам себе. — Вон и в Корешках полно машин и у нас на Зеленой Горке тоже. Они даже и не собираются уходить, где ж там! Разве их теперь выгонишь!»
В Корешках было людно на улице. Кругом слышался немецкий говор. Фашисты суетились возле машин, что-то кричали друг другу, приплясывали от мороза, терли себе уши и носы и ругались. Многие машины готовились к отправлению. В эти машины немцы таскали из домов и сваливали всякое крестьянское добро: полушубки, посуду, одеяла, даже табуретки. На повороте, там, где дорога сворачивает на Отраду, Ганя придержал лошадь. Мимо, чуть не задевая за их сани, промчался отряд мотоциклистов. Ганя глядел на их странные, жуткие фигуры, и брови его хмурились. Сколько же их нагнали сюда!
Ганя поставил лошадь к сторонке, а сам пошел искать старосту Савельева. Недовольный немец следовал за ним. Новоиспеченного старосту Ганя нашел скоро, но поговорить с ним оказалось не так-то легко. Его окружали солдаты. Один кричал, чтоб староста дал лошадей, другой громко ругал его за что-то и дергал за рукав. Немец, который сопровождал Ганю, растолкал всех и стал требовать у старосты молока. Но и его тоже оттолкнули. Высокий, с нашивками на рукавах, только что подъехавший на мотоцикле, подошел к старосте и приказал передать всем жителям, чтобы они немедленно выходили из домов и тотчас же покидали деревню.
— Жечь, жечь хотят! — заголосили стоявшие рядом бабы и побежали к своим дворам.
— Глядите, Отрада-то! — отчаянно крикнул кто-то.
Над Отрадой поднимался черный дым.
Ганя бросился к своей лошади, выкинул из саней бидон и, забыв про своего провожатого, недовольного немца, помчался домой. Он погонял лошадь, а сам оглядывался то на Отраду, то на свою Зеленую Горку. Дым над Отрадой становился все гуще, все шире, яркие багряные языки показались внизу, но над Зеленой Горкой пока еще ясно синело тихое небо.
«Может, у нас не будут жечь, — пытался успокоить себя Ганя. — Может, у нас обойдется».
И тут, словно в ответ на его мысли, над крайней избой поднялся первый зловещий дымок.
Красные звезды
Ганя не успел подъехать к околице, как из деревни с ревом выкатилась крытая немецкая машина, за ней показалась другая, третья… Ганя поспешно своротил свою лошадь в сугроб, чтобы дать им дорогу.
Лошадь стояла, опустив косматую голову, — она рада была, что ей дают отдохнуть немножко. Но Ганя не мог оставаться спокойным. Он то вставал в санях, то садился, то соскакивал и, утопая в снегу, ходил возле саней.
Он видел, как чернеет и разрастается дым над крайней избой.
— Мироновы горят… — шептал он, — сейчас, может, и наших зажгут… Ну, скоро, что ли, их черти пронесут с дороги? Едут — не едут! Конца им нет!
Машины шли тесно друг за другом. Они шли медленно, глубоко утопая в снегу. Иногда одна какая-нибудь буксовала и поднимала свирепый рев, стремясь рвануть с места, и тогда, сгрудившись, останавливалась вся очередь машин, потому что стороной негде было проехать.
Над Зеленой Горкой показался еще дымок, уже с другого конца.
— Всю деревню сожгут, — в отчаянии бормотал Ганя, — а я все тут буду стоять! Может, по сугробам пробежать? А лошадь? Как же лошадь бросить? Ведь колхозная же… А вот уже и третья изба занимается… Что делать?
Откуда-то издали донесся смутный гул. Ганя прислушался — то ли это машины гудят, то ли еще что. Гул нарастал, становился сильнее, и Ганя понял, что это гудят самолеты.
«Желтые крестовики летят, — решил Ганя, — войско сопровождают».
И оглянулся кругом, ожидая, что сейчас откуда-нибудь из-за леса, из-за крыши сарая низко-низко вылетит серый самолет с черными крестами на желтых крыльях.
Но, вглядевшись в морозное небо, Ганя увидел, что самолеты уже давно летят над его головой. Они летели очень высоко и ярко блестели на солнце.
«Чьи же это?»
Самолеты пронеслись вперед. Потом эта сверкающая стайка развернулась, снизилась, и Ганя отчетливо увидел на светлосеребряных крыльях алые звезды.
— Наши, — невольно воскликнул Ганя, — наши летят!
Вдруг наверху затрещали пулеметы, и пули прямым дождем засвистели по немецким войскам. Немцы бросились под машины. Ганя погнал было свою лошадь, но она ни за что не хотела лезть дальше в сугроб. Тогда он соскочил с саней, отбежал к сараю и спрятался.
— Давай бомбы! Бомбы бросай! — сжимая кулаки, в азарте повторял он. — Бомбы! Бомбы!
Самолеты сделали еще залет, дали еще залп по немецким машинам. Со стороны Корешков ударили немецкие зенитки — почти возле каждого самолета появилось кудрявое облачко, маленькая белая кучка дыма. Самолеты тотчас рассыпались и, поднявшись выше, утонули, растаяли в синем небе.