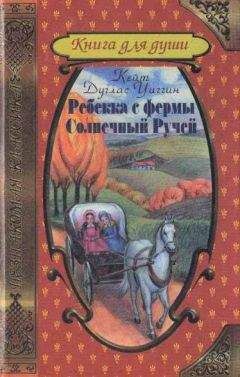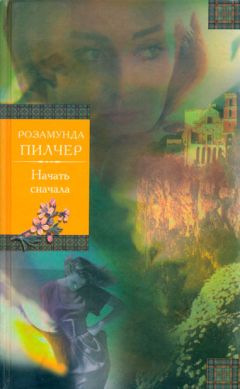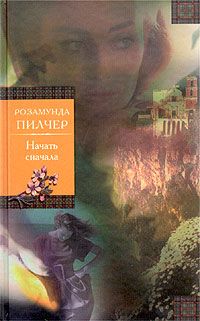Кейт Уигглин - Ребекка с фермы Солнечный Ручей
Вдруг до сознания Ребекки дошла точка зрения взрослых. Прежде она не представляла себе эту точку зрения, пока та не стала слишком очевидной, чтобы можно было ее игнорировать. Неужели они поступили неправильно, отправившись беседовать с Джекобом Муди? Будут ли тетя Миранда и мистер Перкинс сердиться?
— Но почему он так ужасно вел себя, Эмми? — ласково спросила она. — Что ты сказала сначала? Как ты подвела речь к главному?
Эмма-Джейн всхлипнула еще более судорожно, вытерла нос и глаза, стараясь взглянуть на дело беспристрастно.
— Думаю, я никак не подводила — ничуточки. Я не знала, что ты хочешь этим сказать. Меня послали с поручением, и я пошла и выполнила его чем могла лучше. (Грамматика у Эммы-Джейн всегда хромала в минуты волнения.) А потом Джейк заревел на меня, точно бык судьи Бина… И назвал мое лицо харей… Закрой свою секретарскую тетрадку, Элис! Если ты запишешь хоть одно слово, в жизни не буду с тобой больше разговаривать… И не хочу я быть «членом» ни минутой дольше. Я боюсь вытащить еще одну короткую бумажку. Мне этих «дочерей Сиона» хватит по гроб жизни! И мне наплевать, кто ходит на собрания, а кто нет.
К этому времени девочки были уже у ворот Перкинсов, и Эмма-Джейн с унылым видом вошла в пустой дом, чтобы смыть все следы трагедии со своей особы, прежде чем мать возвратится из церкви.
Остальные медленно продолжали свой путь вдоль улицы, чувствуя, что их казавшееся столь многообещающим миссионерское общество почило почти так же быстро, как родилось.
— До свидания, — сказала Ребекка, глотая стоявший в горле комок разочарования и огорчения, так как ей было ясно, что весь вдохновляющий план потерпел неудачу и бесследно исчез, как радужный мыльный пузырь. — Все кончено, и мы никогда не станем пытаться это повторить. Я пойду домой и буду усердно шить через край, потому что терпеть не могу этот шов. А тетя Джейн должна написать миссис Берч, что мы не хотим быть отечественными миссионерами. Возможно, мы все-таки недостаточно большие. Я совершенно убеждена, что приятнее обращать людей, когда они желтые, или коричневые, или любого другого цвета — только не белые. И я думаю, что, должно быть, легче спасти их души, чем заставить их ходить на собрания.
Рассказ третий
Книга Мыслей Ребекки
Во времена Ребекки на сеновале скотного двора «девочек Сойер» все еще хранилось сено, хотя было оно десятилетней давности и, по мнению изредка заезжавшей в гости лошади, совершенно лишено сока и аромата. Скотный двор также все еще укрывал от непогоды большой экипаж и сенокосилку старого дьякона Сойера, сани и с десяток других предметов, оставшихся от более раннего периода, когда обширные земли, принадлежавшие обитателям кирпичного дома, постепенно превращались в одну из лучших ферм Риверборо.
Теперь же в стойлах не было ни лошадей, ни коров; ни одна свинья не хрюкала с удовлетворением в загончике, намекая на будущие вкусные свиные ребрышки; дерзкие куры не клевали растения в заботливо лелеемом палисаднике. «Девочки Сойер» старели и, памятуя о том, что «заботы хоть кого в могилу вгонят», устраивали свою жизнь так, чтобы избежать, по меньшей мере, именно этой горькой участи, — и удавалось им это совсем неплохо, до тех пор пока прибытие в кирпичный дом Ребекки не придало существованию чуть больше острых ощущений.
Раз в месяц, из года в год, мисс Миранда и мисс Джейн, повязав голову полотенцем, совершали торжественный обход скотного двора, снимая чехлы и стирая пыль со старинной утвари, а иногда смахивая самые тяжелые клочья висевшей по углам паутины или подметая пол.
Шаткая стремянка дьякона Сойера по-прежнему стояла на своем месте, прислоненная к краю сеновала, и даже небесная лестница, ведущая к вечной славе, едва ли казалась Иакову прекраснее,[57] чем эта стремянка Ребекке. По пыльным ступенькам она взбиралась, взбиралась, взбиралась — прочь от времени, забот и старых теток, прочь от детских обязанностей и детских огорчений — на сеновал, где ее ждало столько прекрасных видений, счастливых грез и смутных желаний, что, когда ее маленькие смуглые руки цеплялись за края лестницы, а ноги осторожно ступали на перекладины, сердце в груди почти не билось в восторге радостных ожиданий.
Когда высоты были взяты, предстояло отодвинуть засов тяжелых дверей и потянуть их на себя. И тогда — о вечно новый рай! Тогда — о вечно прелестный зеленый и растущий мир! Ибо Ребекка имела в душе нечто такое, что
Влагает и в закат, и в плеск волны
Живую прелесть вечной новизны.
На вершине соседнего холма ей был виден скотный двор Элис Робинсон с его блестящим флюгером — огромной рыбой из полированного металла, которая плыла по ветру и предсказывала погоду на день всему Риверборо. Луг, залитый солнцем и тянувшийся вверх по склону холма до соснового леса, иногда был плавно струящейся полосой блестящей травы, а иногда — когда цвели маргаритки и лютики — ласкающим взор видением белого и золотого. Потом жнивье бывало усеяно «веселыми сена стогами», а чуть позднее горный клен, стоявший на самой опушке соснового леса, сверкал точно золотой шар на фоне темной зелени, а его сосед, сахарный клен, пламенел в своем алом наряде.
Как-то раз в такой же пахнущий морозцем день Адам Ладд (любимый «мистер Аладдин» Ребекки) после безуспешных поисков в поле и саду вдруг заметил открытые двери сеновала и позвал ее. При звуке его голоса она, вздрогнув, опустила свой драгоценный дневник и бросилась к дверям сеновала. Для него оказалось незабываемым это зрелище — маленькая поэтесса в плаще и митенках с книжкой в одной руке и карандашом в другой, взъерошенные темные волосы с живописным добавлением в виде торчащих кое-где соломинок, щеки с густым румянцем, смеющиеся глаза.
— Сафо[58] в митенках! — воскликнул он со смехом, а в ответ на ее заинтересованный вопрос велел ей поискать эту незнакомую леди в школьной энциклопедии, когда представится такая возможность в учительской семинарии в Уэйрхеме…
Обычно она начинала с приготовлений: направлялась в угол сеновала и извлекала из-под сена толстую, в пестром переплете, книгу для записей, где еще оставалось много чистых страниц. Из кармана холщового передника появлялись карандаш, кусочек старательной резинки и несколько листиков оберточной бумаги; затем она не спеша усаживалась на полу и придвигала к себе вместо стола поставленный вверх дном ящик для мыла.
Книга с благоговением открывалась, и следовало внимательное чтение отрывков из того, что уже было аккуратно занесено в нее ранее. Большинство из них явно было по вкусу писательнице, так как на щеках время от времени появлялись ямочки удовольствия, а порой на лице играла и улыбка несомненного восхищения; но бывали иногда и сдвинутые брови, и вздох разочарования, свидетельствовавшие о том, что художник в ребенке был не вполне удовлетворен.
Затем следовал критический момент, когда многообещающий юный автор был предположительно терзаем муками творчества; но здесь, судя по всему, никаких мук не было. Другие девочки могли отлично владеть штопальной и вышивальной иглой или вязальными спицами и проводить челнок для плетения кружев через сложнейшие петли тончайших хлопчатых нитей; мережка, шов через край, жгут в тринадцать шнурков — все было им под силу, но карандаш никогда не становился послушным инструментом в их пальцах, а перо и чернильница внушали ужас с раннего детства и на веки веков.
Не то с Ребеккой; ее карандаш двигался так же легко и быстро, как и ее язык, — и никакое другое сравнение не могло бы оказаться более удачным. Ее почерк не был идеальным; ей не хватало ни времени, ни терпения, чтобы следовать образцам прописей, и ее бесформенные буквы часто бывали причиной огорчений для ее учителей; но писать она могла, писать хотела, писать должна была и писала — когда нужно и когда не нужно. С того времени, как в шесть лет она начала выводить первые крючочки, писать всегда было для нее самым легким из всех возможных заданий; предаться всей душой любимому занятию было утешением и бальзамом для чувств, когда внушающие ужас примеры на «общее наименьшее кратное» угрожали опрокинуть все представления здравого смысла или правила грамматики маячили, громадные и непобедимые, где-то на горизонте.
Что же до правописания, оно пришло к ней само собой, а не в результате учебы, и, хотя иногда ей случалось сбиться с проторенного пути, замечательный слух и хорошая зрительная память помогали избежать многих грубых ошибок. У нее бывали похвальные намерения — особенно когда она читала на ночь молитву — непременно отыскивать в своем маленьком словарике все слова с сомнительным написанием, прежде чем переносить свои Мысли в заветную «Книгу», которой предстояло вдохновлять грядущие поколения, но, когда гений кипел, и особенно когда она была на сеновале, а словарь в доме, творческий порыв всегда одерживал победу над благоразумием.