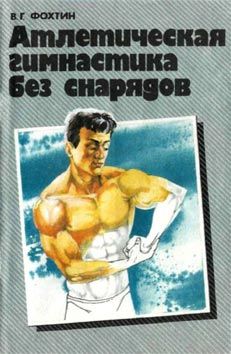Галина Карпенко - Тимошкина марсельеза
— Ты что, ангелов не видал? — удивилась Фроська, когда Тимошка спросил, какие они, ангелы. Она показала ему открытку, на которой по синему небу летела румяная девица, и за спиной у неё были крылья, похожие на гусиные.
— Нешто они такие? — усомнился Тимошка.
— Гляди: крылышки, головка кудрявая, — любовалась Фроська и великодушно предложила: — Хочешь, подарю?
— На кой она мне? — Тимошка не мог бы доверить удивительную песню такому ангелу.
— Такой-то картиночки ни у кого нет… — с обидой сказала Фроська.
— «Аве Мария»! — вспомнил Тимошка первые слова песни и обрадовался, будто нашёл что-то очень дорогое.
— Ты чего, ты чего? — Фроська дёрнула Тимошку за рукав.
— Погоди, — сказал Тимошка, не раскрывая глаз.
Но Фроська продолжала его тормошить.
И Тимошка нехотя согласился играть с Фроськой в фантики. В той же коробочке, в которой лежал ангел, Фроська хранила бумажки от конфет. Разделив поровну яркие фантики, Фроська пошла первой на кон.
— «Крем-брюле», — прочитала она и ударила ладошкой по краю стола.
Фантик перевернулся и упал на стол рядом с пустой солонкой…
Песню, которую пели ангелы, под шарманку не споёшь, и в бубен под неё не ударишь… Тимошка хотел сыграть её на флейте.
— Может, не совсем сломана? — спросил Тимошка, с надеждой глядя на Гришу.
— Нет, не годится, — ответил Гриша. — Наверное, Семён Абрамович просто так её берёг, на память. — Гриша продолжал рассматривать флейту. — Не стесняйся, подбирай на моей балалайке, что тебе надо.
Берёг на память…
Когда Гриша ушёл из сарая, Тимошка стянул с шарманки пыльную рогожу, приоткрыл её крышку и опустил туда дедово сокровище.
Он ещё долго стоял перед «капризом судьбы».
Уже никогда не будет так, как было. Никогда больше он не протянет деду шляпу с выручкой, а тот, пересчитав медяки, горько не пошутит:
«Куда же нам истратить миллион, Тимофей?..»
Тимошка вспоминал, как дед кашлял, сердился, улыбался и спорил. И как, проснувшись ночью, он слышал его дыхание.
— По деду-то горюешь? — спросила его во дворе соседка, развешивая бельё.
Тимошка не ответил.
— Конечно, кабы родной помер — другое дело, — продолжала она, расправляя мокрую простыню.
Тимошке захотелось швырнуть в неё чем ни попадя, но он смолчал и ушёл в дом.
Первые уроки
Василий Васильевич возвращался домой с каждым днём всё позже и позже. Пелагея Егоровна сердилась:
— С Гришки, с того спрашивать нечего: молодой, глупый — то на митинг, то на собрание. А ты на старости чего придумываешь?.. Когда вас нынче-то ждать? — спросила она, собирая утром на стол.
— Не знаю, мать. Когда придём, — ответил Василий Васильевич.
— Самовар подними! — приказала Грише Пелагея Егоровна и в сердцах поставила на стол чашку так, что та треснула.
— Что же ты, мать, посуду не жалеешь? — сказал тихо Василий Васильевич.
Пелагея Егоровна, простоявшая попусту всю ночь в очереди, не выдержала:
— Я с пустой кошёлкой пришла, а ты — завод да завод! Что дома делается — об этом заботы не стало…
— Поля! Ты это зря. Дом на тебе — это верно, и мы это понимаем.
— Кто понимает?..
— Все понимают, — ответил Василий Васильевич. — Все понимают, — повторил он. — К нам на завод Ленин приезжал. «Я, говорит, понимаю, товарищи, как сейчас тяжело вам и вашим семьям, но обращаюсь с просьбой: необходимо ускорить постройку бронепоезда». Придётся работать ночами. Вот, Поля, какое дело.
— Пусть большевики строят — они всему зачинщики, а вам-то, рабочим, что до этого?
— Маманя! — Гриша усмехнулся. — Я же в большевиках третий месяц хожу.
Фроська, которая до сих пор молчала, выглянула из-за самовара:
— В большевиках?
— А ты? — Пелагея Егоровна смотрела со слезами на Василия Васильевича.
— Я не записывался, — ответил Василий Васильевич, — но я на заводе двадцать лет. Мне и без записей всё понятно. Теперь не на Путилова работаем.
— Кто же будет на заводе хозяин? — спросила Пелагея Егоровна.
— Мы, — отвечал Василий Васильевич.
— А получку кто будет вам платить?
— Правительство.
— А правительство кто?
— Мы — рабочие, крестьяне.
— И в лавке не будет хозяина?
— И в лавке не будет.
— В лавке — это правильно, — согласилась Пелагея Егоровна. — Наживаются они на нас, ироды. Чтобы им ни дна ни покрышки!
— Вот и ты на нашей стороне, а то — большевики да большевики! — улыбнулся Василий Васильевич и сказал, уходя на завод: — Нынче нас не ждите, до утра не вернёмся.
* * *Становилось всё голоднее и холоднее. Тимошка обёртывал ноги газетой, чтобы они не так мёрзли. К удивлению Пелагеи Егоровны, у Фроськи из полусапожек тоже стали торчать обрывки газет.
— Ой, Фроська, мартышка ты у нас! — смеялся Гриша над сестрой и подзадоривал Тимошку: — Ты её кувыркаться научи. Она сможет!
Фроська не обижалась. У них с Тимошкой были свои секреты. Уже почти месяц была закрыта школа, в которой Фроська училась грамоте. Никто не задавал уроков, и тетради с книжками спокойно лежали на комоде. Как-то Тимошка увидел, что Фроська листает задачник по арифметике. Неужто она понимает? Его охватила жгучая зависть.
— Про что тут? — спросил он.
— Тут всё просто, — сказала Фрося. — Минус — чёрточка: отнимаем. Крестик — прибавляем. Понял?
Тимошка слушал как заворожённый.
— Две точечки — делим, — объясняла Фроська и, начертив крестик косо, терпеливо растолковывала ему про умножение.
— Зачем же это? — не соглашался Тимошка. — Зачем умножение, когда есть прибавление? Прибавь пять раз, всё равно получится двадцать пять.
Но Фроська, изображая учительницу, настаивала на своём:
— Это четвёртое правило.
Они забирались с задачником за печь — там было иногда тепло. Надев на переносицу старые отцовские очки, Фроська, становилась неумолимой.
— Множь! Множь! — повторяла она.
И Тимошка, начертив косой крест, творил с цифрами чудеса.
— Сто на десять — тысяча! Вот бы набрать тысячу! — мечтал Тимошка. — Мы бы на эту тысячу купили билеты на поезд и на пароход. И айда! На море теперь тепло, там яблок, арбузов сколько хочешь… Фроська не верила:
— Арбузов? Теперь хлеба нет. Война.
Да, теперь война. Это знал и Тимошка. Теперь даже Василий Васильевич ходит на завод с винтовкой. «Мало ли какое дело, — говорит он. — Может, прямо с завода придётся на фронт идти».
Рабочий полк
Рано утром, собираясь на работу, Василий Васильевич сказал жене:
— Не хотел я тебя, Поля, вчера на ночь тревожить, а ты нас с Гришей собери.
— Куда?..
— На фронт, — ответил Василий Васильевич.
— Гришу-то зачем? — побледнела Пелагея Егоровна.
Василий Васильевич, обняв её, промолчал, а она его больше не стала расспрашивать. Когда Гриша с отцом ушли на завод, она долго сидела у остывшего самовара и в который раз перемывала и перетирала чашки. Потом достала чистое бельё и стала пришивать к рубахам пуговки, больно исколов пальцы.
— Куда я напёрсток подевала? — спрашивала она себя, утирая слёзы.
Фроська тоже притихла: сходила за водой, подмела в доме и убежала на улицу. Только когда увидела отца и брата, прибежала обратно.
— Гришка и папаня идут! — крикнула она с порога.
Пелагея Егоровна поднялась и, оглядев всех троих, спросила:
— Обедать будем?
Стуча ложками, Фрося накрыла на стол.
— Ты, Поля, подавайся в деревню к старикам. Там прокормишься, а станет полегче, вернёшься домой, — советовал Василий Васильевич жене.
— С мальчишкой-то что делать? — спросила Пелагея Егоровна. — С двумя-то как доберусь?
— Мальчишку, конечно, надо бы к делу приставить, всю-то жизнь не прокувыркается! Да когда теперь? Вот вернусь…
Тимошки дома не было, он прибежал уже тогда, когда отец и сын стояли перед Пелагеей Егоровной совсем собранные.
— Провожать не ходи, — приказывал Василий Васильевич жене. — Не совладаешь с собой, заплачешь…
Василий Васильевич то надевал, то снимал шапку.
— Присядем, — сказала Пелагея Егоровна.
Все сели.
— А ты чего? И ты садись, — сказал Гриша Тимошке.
Первой поднялась Пелагея Егоровна.
— Не на гулянку собрались, — сказала она. — Ты, Вася, не серчай, я вас благословлю, — Пелагея Егоровна перекрестила сына и, не сдерживая слёз, крепко обняла мужа.
— Ну что ты, что ты, — повторял Василий Васильевич. — Не все… и живые ворочаются!..
Василий Васильевич поцеловал жену и дочь и сказал Тимошке:
— Ты тут, артист, не озоруй. Слушайся Пелагею Егоровну.
* * *Тимошка вместе с другими мальчишками провожал рабочий полк, который построился перед заводом.