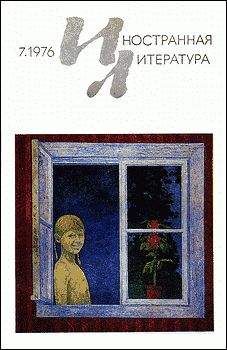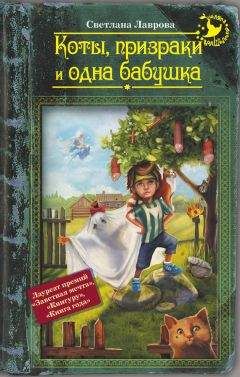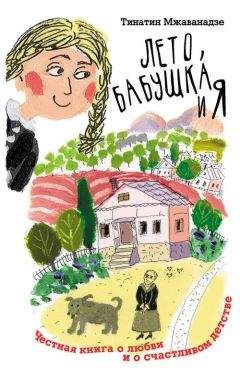Александр Кононов - Зори над городом
— Я не застрелюсь, не бойся. Я только говорю, что понял, как человек, оказавшись в тупике, может поднять на себя руку. Но я по-настоящему еще и не искал выхода из своего тупика. Буду искать. Ты протянул мне руку, чтобы я пожал ее. А подашь ли ты мне ее, чтобы помочь?
Гриша растерялся:
— Я бы рад… Но чем я могу помочь?
Барятин не ответил.
После долгого молчания он встал:
— По совести говоря, я и сам не знаю, чем ты можешь помочь. Но убежден в одном: чтобы найти дорогу, нужно искать людей. Из всех, кого я знаю, я выбрал тебя. Если ошибся, прости…
Эта встреча и обрадовала и смутила Шумова. Он, конечно, был рад примирению с Барятиным. И в то же время его одолевали сомнения: а что, если Борис опять позирует? Говорил же он, что замашки беззаботного балагура-весельчака были для него только ролью. Может быть, он просто перешел к новой роли?
Но даже если Барятин и был искренен до конца, — что мог посоветовать ему Григорий Шумов?
Он очень удивился, неожиданно увидев Бориса на одном из собраний кружка Владимира Владимировича.
Барятин сидел хмурый и, казалось, внимательно слушал всех, кто выступал с речами.
Тон этих речей становился все смелее. Сам профессор больше молчал и только один раз призвал слушателей к «академической терминологии».
Это было в тот день, когда один из редких посетителей кружка, человек с изможденным лицом и ярко горевшими глазами, воскликнул:
— Красный призрак коммунизма бродит по Европе!
В ответ на замечание профессора он сказал задорно:
— Я только цитирую!
И сразу же ушел.
Вслед за ним поднялся и человечек с ярким галстуком. Но его задержал Владимир Владимирович, окликнув:
— Коллега!
Шпик продолжал идти к дверям.
— Коллега! — повторил Владимир Владимирович.
У самых дверей шпика перехватил Веремьев:
— Вы не слышите, что ли? К вам профессор обращается.
— Ко мне?
— Да, да! — повышая тон, сказал Владимир Владимирович. — Разве вам неизвестно, что «коллега» — общепринятое в университете обращение? Студенты обычно на него отзываются. — Профессор вынул из жилета золотые часы и на виду у всех принялся изучать движение стрелок на циферблате. — Или вы не студент? Но тогда что же… вольнослушатель, не так ли?
— Простите, я не совсем… — пролепетал агент; судорожно глотнув, он для чего-то поправил свой нарядный галстук и вдруг опять рванулся к выходу. Но его опять удержал Веремьев.
— Не совсем меня поняли? — удивился профессор, не сводя глаз с циферблата часов. — А между тем вопрос мой чрезвычайно прост. Я бы сказал, он даже элементарен. Кстати: я вижу вас на семинаре не впервые… Нет, далеко не впервые. — Профессор явно тянул время, и агент понял это — у него злобно блеснули маленькие, свинцового цвета глазки.
— Мне нужно идти! — проговорил он, видимо ожесточившись.
Владимир Владимирович любезно улыбнулся:
— Впервые слышу ваш голос. Не поделитесь ли вы с нами вашими намерениями? Быть может, у вас зреет в голове тема будущего реферата?
Студенты дружно рассмеялись.
Профессор щелкнул крышкой часов, спрятал их в карман и проговорил, вздохнув:
— Вы несловоохотливы. Ну что ж… Можете идти.
Шпик рысью выбежал из аудитории.
Кто-то крикнул ему вслед:
— Опоздал!
— А уж это лишнее, — недовольным тоном проговорил Владимир Владимирович. — До сих пор все шло, я бы сказал, безукоризненно. Один из слушателей семинара, — к сожалению, нам неизвестна его фамилия, — позволил себе процитировать документ, выходящий за рамки университетской программы. Руководитель семинара сделал ему замечание. При этом произошел небольшой инцидент: некто из присутствующих на занятиях нарушил порядок — слишком порывисто кинулся к дверям — и был мною остановлен; этот, повторяю, незначительный инцидент ничуть не испортил общей вполне благополучной картины. — Владимир Владимирович не выдержал и присоединился к смеху студентов: — А теперь занятия семинара будут продолжаться обычным своим порядком.
Гриша вышел из университета вместе с Барятиным.
Борис был рассеян, молчалив.
Только перед тем, как проститься, он спросил:
— Скажи, ведь большое значение в твоей жизни имели книги? Какие именно?
— Ну, брат, — удивился Шумов, — для своих лет я не так уж много книг прочел. Надо бы, конечно, больше… Но все-таки и их не перечислишь.
— Зачем их перечислять? Ты знаешь, о чем я говорю.
Грише стало не по себе. Он действительно знал, о чем говорит Барятин. Но не мог же он предложить Борису ленинское «Что делать?»!
— В разном возрасте разные книги оказывали на меня влияние. В детстве — «Тарас Бульба». Подростком я зачитывался «Оводом». Попозже — «Андреем Кожуховым» Степняка-Кравчинского. Вырос — читал «Что делать?» Чернышевского…
— Чернышевского я прочитал. Недавно, — сказал Барятин.
— Ну? И что же? — живо спросил Шумов.
— Еще раз понял, что я — человек невежественный. Ну, прощай.
— Заходи ко мне, — горячо проговорил Гриша, сжимая руку Барятина. — Я всегда буду рад…
— Спасибо.
Может ли человек перемениться так быстро?
Правда, наступило время, когда разительные перемены в людях не только перестали удивлять, но даже казались иногда естественными.
Идейный столп российского воинствующего капитализма, член Государственной думы профессор Павел Николаевич Милюков выступил в думе зимой шестнадцатого года с речью, которая умам неискушенным показалась смелой и чуть ли не революционной.
Перечисляя грехи и промахи императорского правительства, Милюков грозно восклицал с трибуны:
— Что это — глупость или измена?
Полиция охотилась за газетой, в которой была напечатана речь кадетского лидера, мальчишки-газетчики бойко торговали ею из-под полы — по рублю за штуку.
Умы неискушенные не были осведомлены о том, что нити от Милюкова вели к английскому посольству.
Там уже ставился на повестку дня вопрос: не пора ли пожертвовать русской династией, чтобы сохранить то, что еще можно спасти, чему уже угрожал нарастающий шквал революции?
Изменился ли на седьмом десятке лет седовласый депутат думы?
Вряд ли. Изменились обстоятельства. В зависимости от этого изменилось и его поведение. Но сам он остался неизменным. По-прежнему твердил о необходимости отнять у Турции Дарданеллы — они ведь так нужны были российскому торговому капиталу. По-прежнему он был глух к народному гневу и не мог предвидеть сокрушительной его мощи. По-прежнему он боялся революции не меньше, чем его думский противник черносотенец Пуришкевич.
Кучка придворных во главе с одним из великих князей и вкупе с тем же Пуришкевичем решилась выступить против воли малоумного «венценосца». Они убили близкого к трону Распутина и зимней ночью спустили его тело под лед.
Они, конечно, искренне считали себя спасителями отечества.
Что изменилось в их отношении к миру? Ничего. Изменились только обстоятельства. Обстоятельства грозили монархии, надо было стать на ее защиту, и сторонники самодержавия решились даже на эсеровский способ расправы с человеком политически нежелательным.
Могут измениться только люди, которым дано открыть в себе черты, раньше им самим неизвестные.
Новое нашла в себе истомленная очередями женщина — незнакомую ей прежде ненависть.
По-новому почуял свою силу молодой рабочий, вчерашний батрак, став плечом к плечу со старшими своими братьями — у станка, на шахте, у паровозной топки.
Мог измениться и двадцатидвухлетний беспечный студент, мечтавший прожить жизнь легко: жизнь ему показала, что веселая эта легкость есть не что иное, как недостойное человека существование.
Барятин мог измениться искренне — люди ведь развиваются по-разному.
Но поверить ему сразу и безоговорочно Шумов не мог.
39
Все настойчивее, все увереннее, все глубже проникала в самые различные слои населения мысль: так дальше продолжаться не может.
Не может!
Близка наконец перемена…
Не всем зримы были пути и самая суть такой перемены. Но и те, кто видел, — видел каждый по-своему.
Одним чудилась великая перемена в жизни народа светлой пасхальной заутреней с колокольным звоном, радостным поцелуйным обрядом, с братским единением неимущих и богатых, угнетенных и раскаявшихся угнетателей.
Другие ждали очистительной грозы, которая могучими ливнями смоет в стране все прогнившее, мертвое, обреченное…
Были и такие, которые гадали: не лучше ли вместо слабовольного и скудоумного царя посадить на трон его дядю, Николая Николаевича, — это тоже ведь будет великой переменой. Нужен сильный человек, с крутой волей, — он и гниль выметет из страны, и взбунтовавшийся народ взнуздает, пока не поздно. Шепотком передавали: у министра внутренних дел Протопопова есть свой план: прекратить на три дня подвоз хлеба в Петроград, вызвать преждевременные волнения и подавить их силами столичной полиции, а если их не хватит, вызвать надежные части с фронта. Революция будет разгромлена.